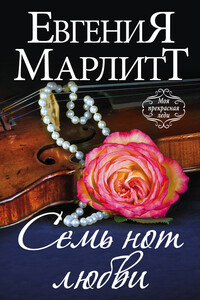— Матушка! — воскликнулъ молодой человѣкъ.
— Сынъ мой, — продолжала она, не обративъ вниманія на его восклицаніе, въ которомъ слышались мука и горе, — ты только что высказалъ желаніе быть очень богатымъ, и, какъ я теперь вижу, ты имѣлъ къ тому полное основаніе, потому что «княжеское содержаніе» дома требуетъ большихъ денегъ. Ты думалъ воспользоваться для этого состояніемъ твоей матери, и ты, можетъ быть, отчасти правъ. Но состояніе это заботливо собиралось грошами и пфеннигами въ теченіе трехъ столѣтій честнымъ трудомъ семьи, и я говорю тебѣ, - при этихъ словахъ она величественно выпрямилась и подняла правую руку, — что я не дамъ своего наслѣдія на безпутную жизнь комедіантовъ, а лучше возвращу все до послѣдняго гроша въ родъ Вольфрама. Такъ и знай!
— Это твое окончательное рѣшеніе, матушка? — спросилъ сынъ съ побѣлѣвшими губами и потухшимъ взоромъ.
— Мое окончательное рѣшеніе… Выкинь эту дѣвушку изъ головы — ты долженъ это сдѣлать, говорю тебѣ это разъ навсегда! Я хочу вѣдь добра тебѣ, - потомъ ты будешь меня благодарить.
— За разбитое счастье не благодарятъ, — возразилъ онъ, и голосъ его, все болѣе и болѣе возвышаясь, зазвучалъ гнѣвомъ, котораго онъ ужъ не могъ болѣе сдерживать. — Высыпь свои капиталы въ колыбель маленькаго Вольфрама, — они твое наслѣдіе, и ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрѣнію. Но ты не можешь вмѣшиваться въ мои сердечныя дѣла, эгоистически врываться въ мою жизнь, какъ будто я вещь, предметъ безъ крови и плоти, кусокъ воску, которому можно придать какую угодно форму и вдохнуть въ нее духъ Вольфрама… Ты ужъ однажды повернула мою жизнь по собственному произволу, что я называю незаконнымъ грабежомъ. Я былъ тогда ребенкомъ и долженъ былъ подчиняться тебѣ. Но теперь у меня своя воля и я не позволю себя вторично ограбить съ безчеловѣчной жестокостью.
— Господи Iисусе! — простонала маіорша, какъ будто бы получила смертельный ударъ. Она повернулась къ двери, точно хотѣла бѣжать, но остановилась съ невольно поднятыми кверху руками и съ ужасомъ смотрѣла на сына. У совѣтника же на лбу отъ гнѣва надулась жила; онъ схватилъ молодого человѣка за руку и сильно тряхнулъ его.
— Что это за тонъ, негодяй? — гнѣвно закричалъ онъ. — Что у тебя украли, нищій? Объяснишь ли ты мнѣ, какъ тебя ограбили?
— Отнявъ у меня домъ и отца, — отвѣчалъ Феликсъ, энергичнымъ движеніемъ вырвавъ у дяди свою руку. — Если отецъ умираетъ, на то Божья воля, которой дѣти должны подчиняться; но никогда люди не должны разлучать отца съ сыномъ, такъ какъ они дополняютъ другъ друга и болѣе принадлежатъ другъ другу, чѣмъ мать и сынъ… А мой отецъ сильно любилъ меня. Я до сихъ поръ помню, что я чувствовалъ, когда онъ — этотъ гордый красивый солдатъ, котораго бранятъ легкомысленнымъ за то, что онъ не былъ филистеромъ [4], покрывалъ меня поцѣлуями и страстно прижималъ къ своему сердцу.
Онъ замолчалъ и глубоко перевелъ духъ; послѣ того, какъ онъ все высказалъ, какъ будто гора упала съ плечъ его… При послѣднихъ словахъ мать его вышла изъ комнаты, онъ слышалъ, какъ тяжело и медленно шуршалъ шлейфъ ея платья по каменному полу кухни; онъ слышалъ, какъ она отворила узкую стеклянную дверь, ведущую на задній дворъ, потомъ онъ увидѣлъ, какъ она прошла съ поникшей головой по двору и исчезла за противолежащимъ зданіемъ, — тамъ была калитка въ садъ.
— Погибшій сынъ! — воскликнулъ совѣтникъ, задыхаясь отъ гнѣва. — Этого мать тебѣ никогда не проститъ. Ступай! Уходи изъ моего дома, здѣсь нѣтъ больше мѣста для тебя. Я не знаю, какъ мнѣ и благодарить Бога за то, что онъ продлилъ родъ Вольфрамовъ и избавилъ ихъ старый домъ отъ чуждаго кукушкина отродья.
Онъ ушелъ въ свою комнату и съ шумомъ захлопнулъ за собой тяжелую, обитую желѣзомъ дверь, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ молча дрожащими руками завертывалъ серебряный приборъ, единственное отцовское наслѣдіе, чтобы тоже уйти изъ столовой.