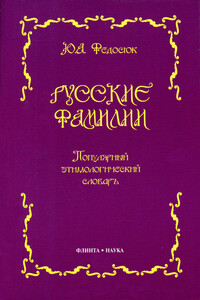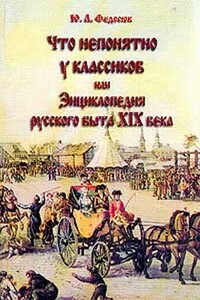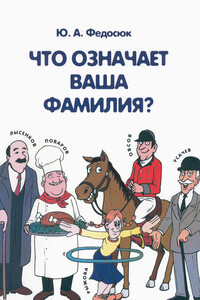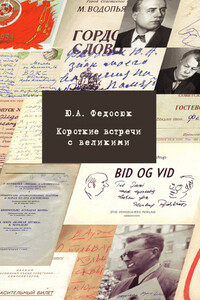Пусть не удивит читающего эти строки память 6—7-летнего мальчика на имена и названия: мне всегда виделась в них какая-то таинственная связь с обозначаемым предметом или лицом. Поэтому театральные программы я штудировал внимательно, помню даже имена всеми забытых исполнителей. Да и нарицательные слова меня завораживали. Перед началом «Кармен» я спросил кого-то из взрослых, сопровождавших меня: «Что будет в начале оперы?», мне ответили – увертюра. Я воспринял это незнакомое слово как «У Вертюра», вообразив, что Вертюр – персонаж, в доме которого происходит первое действие. Однако ни в первом действии, ни в остальных никакой Вертюр не появлялся, не обнаружил я это имя и в программе. Но ничего: и без таинственного Вертюра опера оказалась восхитительной.
В восьмилетием возрасте меня по случаю отправили вместе со стриженой и седой (сочетание в то время редкое) Валентиной Николаевной, матерью тетиной подруги, в оперный театр Станиславского на «Евгения Онегина». Ничего удивительного не было в том, что пушкинского романа я тогда еще не читал; удивительна была моя боязнь, что Валентина Николаевна откроет мое невежество и устыдит меня. Поэтому я делал вид, что знаю сюжет. Постановка была скромная, та же, что и ныне, не в пример пышным спектаклям Большого театра. Сидели мы где-то на галерке, я жадно следил за действием. Мне сразу же не понравился надменный пижон Онегин, зато симпатию завоевал милый и нежный
Ленский. Я с напряжением наблюдал ссору друзей и с нетерпением ожидал сцены дуэли: очень хотелось, чтобы Ленский застрелил Онегина, а не наоборот. В перерыве между картинами очень чесался язык спросить об исходе дуэли у Валентины Николаевны, но, во-первых, это сразу же открыло бы мое невежество, а во-вторых, страшно было потерять надежду на желательный мне результат поединка. Эмоция, знакомая современному телевизионному болельщику, смотрящему уже закончившийся на стадионе матч позднее, в видеозаписи. И вот сцена у мельницы: выстрел, и бедный Ленский падает замертво. Полнейшее мое огорчение, дальнейший ход событий уже никак не занимал меня. Вот если бы жив остался Ленский и женился бы на Ольге или хотя бы на Татьяне! Последние две картины оперы я смотрел уже без всякого интереса. Ленского нет – чего уж тут смотреть, поскорей бы кончилось!
Уже через десять лет, я выше всего стал ценить в опере именно её последнее действие, наиболее глубокое и яркое по музыке, сильнейшее в драматическом и психологическом плане. Ценю и вплоть до нынешнего дня – разумеется, наряду со сценой письма Татьяны.
Первым виденным драматическим спектаклем была, конечно же, «Синяя птица». Сейчас можно прочитать, что сложная символика пьесы Метерлинка никак не рассчитана на детское восприятие. Чепуха! Дело не в символике, не очень к тому же и сложной, а в сказочности. Ни одна прослушанная или прочитанная ребенком сказка не производит на него такого впечатления, как эта зримая театральная сказка, не сходящая со сцены уже 80 лет и выдержавшая проверку десятков поколений маленьких зрителей. Умение ребенка видеть в обыденном сказочное, фантастическое, сочетание в детском восприятии этих двух стихий учтены Станиславским до мельчайших деталей… Ставя «Синюю птицу», он явно окунулся в собственное детство! Сны сменяются явью, проза быта – грёзами тонко, красиво, изобретательно. Заурядная птичка становится фантастической Синей птицей, которую столь важно отыскать, пройдя через все трудности и препятствия. Окружающие предметы оживают, становясь друзьями или врагами. Сгорбленная соседка с костлявым именем Берленго превращается в очаровательную фею с мелодичным именем Бирюлюна. Если бы хлеб, сахар, огонь и вода вдруг ожили, то они вели бы себя именно так, как в пьесе Метерлинка, и никак не иначе! Особенно поразила меня сцена посещения детьми умерших дедушки и бабушки. Как точно передано непонимание ребенком трагической природы смерти! Никакого ужаса загробного мира, сидят себе мирно старички у своей хижины и вроде бы продолжают жить и мыслить, хотя давно уже «выпали из времени». Как естественно говорит дедушка мальчику: «Как ты вырос, Тильтиль» – ведь в самом деле он давно уже не видел внука. И какая доброта лучится из обоих стариков! Если бы выдумать мир заново, только так следовало бы устроить загробное царство – как продолжение жизни в мыслях.