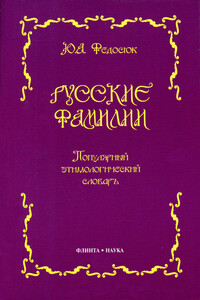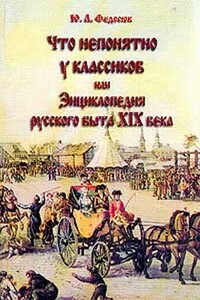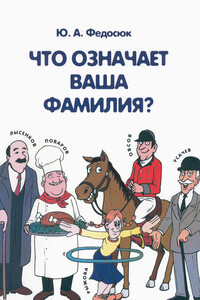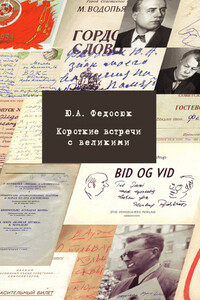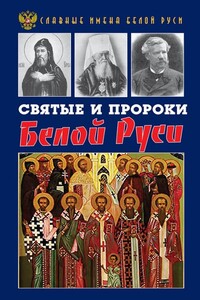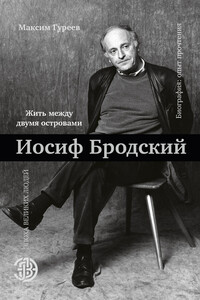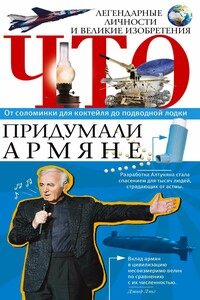Ходил анекдот: ознакомившись с рукописью пьесы, за постановку которой горячо ратовал Немирович-Данченко, Станиславский высказал ему свои опасения: «А не посадят ли нас, Владимир Иванович, за эту постановку в ГУМ?» Далекий от новой, советской терминологии основатель МХАТа спутал ГУМ с ГПУ – тогдашним КГБ.
В «ГУМ» никого не посадили, а МХАТ вскоре сменил свою репутацию изжившего себя, враждебного революции коллектива на звание лучшего советского театра, достойного преемника реалистических традиций русского театрального искусства. Блестящая инсценировка «Анны Карениной» с Тарасовой и Хмелевым в главных ролях снискали театру невиданные лавры и почести. Сорокалетие театра в 1938 году было отпраздновано с огромной помпой, на режиссеров и актеров посыпались награды, почетные звания, их торжественно принимал сам Сталин – самый авторитетный зритель и поклонник МХАТа.
За год до постановки «Анны Карениной», в 1936 году, с театром случилась неприятность: в связи с постановкой пьесы Булгакова «Мольер» появилась рецензия, охарактеризовавшая эту постановку как вредную, антихудожественную, исказившую образ великого драматурга. Пьесу тут же сняли с репертуара и запретили вовсе. Сестра недоумевала: она^была на генеральной репетиции, постановка ей показалась блистательной, а исполнитель роли Мольера Станицын, казалось, превзошел сам себя. После 1953 года пьесу разрешили, я видел её и понял, почему она не понравилась Сталину: в ней весьма прозрачно показывался конфликт между тираном-меценатом и художником. «Король-солнце» Людовик XIV играл с Мольером, как кошка с мышкой, и в конце концов доводил своего любимца, ступившего за дозволенные пределы, до трагической кончины. Лицемерный и своенравный король стопроцентно напоминал Сталина, а несчастный Мольер – Булгакова. Запрещенная за её аллегории пьеса оказалась пророческой: снова попавший в опалу Булгаков тяжело заболел и вскоре умер.
Предвоенный МХАТ вовсе не топтался на месте, повторяя свои традиционные, сугубо реалистические приемы. Так, в 1934 году Станицын осуществил постановку «Пиквикского клуба» Диккенса в модернистских, необычных для театра декорациях Вильямса. Это был яркий, жизнерадостный спектакль, проникнутый добрым юмором и глубокой человечностью. От мхатовских традиций в нем остались тончайшая выверенность каждой роли, реплики, эпизода, в остальном же то был изобилующий театральными условностями гротеск, скорей напоминающий вахтанговскую манеру.
Я несколько раз смотрел «Пиквикский клуб» и запомнил его до деталей, но первое посещение осталось особо памятным. В сцене суда кто-то из сопровождавших (кажется, сестра) толкнул меня и шепнул: «Обрати внимание на судью – это Булгаков». В самом деле, в программе против роли председателя суда значилось: «Булгаков», но эта весьма распространенная фамилия не вызвала у меня никаких ассоциаций. Услышав затем: «Это тот самый Булгаков», я встрепенулся и стал видеть и слушать только одного судью. Мне он показался крупным, большеголовым (может быть, из-за огромного парика) мужчиной, с тяжеловесным подбородком, реплики его, как и подобает судье, звучали резко и повелительно. Самым интересным было то, что выдающийся драматург, не прошедший никакой театральной школы, органически вписался в спектакль, как опытный и полноценный актер. Никакой любительщины, высокий мхатовский профессионализм – пусть и в небольшой, эпизодической роли. Так я единственный раз видел живого Булгакова.
Украшением мхатовской сцены был великий Качалов. Увы, я повидал его лишь в нескольких ролях; Качалова в роли Чацкого упустил. Это был актер своеобразный, необычный: он не умел и не старался перевоплощаться, сквозь любой грим и характер сразу было видно: это не горьковский Захар Бардин и не гамсуновский Ивар Карено, а прежде всего Качалов, и только Качалов. И в этом, как ни странно, заключалось его главное очарование. Изменись Качалов до неузнаваемости, перевоплотись в изображаемого персонажа, вряд ли он нравился бы более. Он не приспосабливался к роли, а подгонял роль под себя. Его сразу же выдавали благородная, неторопливая манера, а главное – богатый, со множеством самых неожиданных модуляций и оттенков, проникающий в самую глубь души голос. Это был актер не сценического поведения, а прежде всего актер голоса.