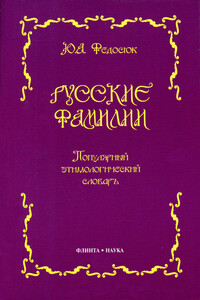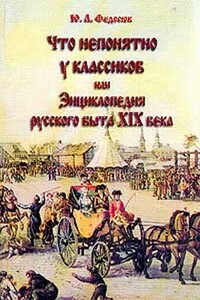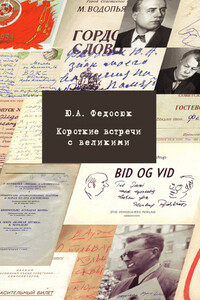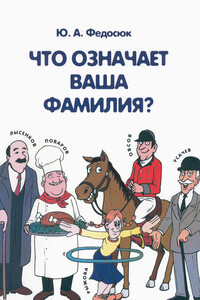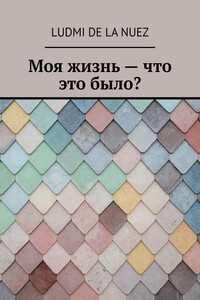Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - страница 58
Балет был ярок, динамичен. В первом действии показывался китайский порт с прибывшим советским пароходом, его капитана играл уже знакомый мне красавец Тихомиров. Советские матросы плясали «Яблочко». Танцовщица Тая-Хоа (Гельцер) влюблялась в советского капитана – представителя нового, свободного мира. Накурившись опиума в кабачке, она видела прекрасный сон: ей грезилось освобождение Китая, советский капитан, покоривший силы зла, уносил её куда-то на руках.
В послевоенной версии балета (я видел её не раз) любовная линия отсутствовала: всякие личные чувства между иностранцами и советскими гражданами по новым нормам считались недопустимыми, непозволительными. Советский капитан вызывал у юной Тая-Хоа не эротическое, а только лишь, если так можно выразиться, политическое влечение. Сам он, разумеется, оставался недоступен любовным чувствам за границей. Исчезло также курение опиума: положительной героине столь порочное занятие возбранялось. Сидя в таверне, она просто засыпала от усталости и видела фантастический сон. Соответственно этому вскоре переименовали и сам балет: вместо «Красный мак» (из мака добывается опиум) – «Красный цветок», хотя под этим цветком по-прежнему подразумевался мак, но только как символ свободы и радости.
Важно отметить, что первый опыт советского балета на революционную тему оказался на редкость удачным, благодаря прекрасной музыке, постановке, декорациям и исполнителям. Он пользовался небывалым успехом, долго не сходил со сцены. Сняли его только в 1961 году из-за резкого конфликта с Китаем.
Осенью 1948 года, в дни 50-летия МХАТа, на приеме в Доме актера директор этого дома Эскин подвел меня к одиноко стоявшей в углу пожилой женщине в скромном коричневом платье: «Екатерина Васильевна Гельцер». Бывшая знаменитая балерина протянула мне маленькую, сухую ручку. Тогда ей было 72 года. Небольшого роста, круглая, полноватая, она, конечно, ничем не напоминала былую Гельцер. Однако пыл молодости в ней не угас: она кокетливо щурилась, улыбалась, туловище её всё время было подвижным. Что мог я сказать балерине? Разумеется, что помню её на сцене, восхищался её искусством еще в детстве. Это было заметно приятно ей, она оживилась, но начавшийся разговор прервала чья-то официальная речь. Такова была моя первая и последняя личная встреча со звездой русского балета.
Затем я увидел в Большом театре первую в жизни оперу – «Кармен». Вышел не просто впечатленный, а потрясенный. Как важно рано знакомить детей с великими произведениями искусства! Конечно, я мало что понял в сюжете, но из музыки запомнились хабанера, куплеты Эскамильо, главное же – поразило само действие, яркое и красочное. Можно понять, почему даже гениальный Чайковский откровенно завидовал Бизе, сумевшему написать такую оперу. Чайковский даже не удержался, чтобы не позаимствовать у Бизе для своей «Пиковой дамы» эпизод игры детей в солдаты из «Кармен» – и тут и там в начале обеих опер. Кармен пела молодая Максакова, о которой говорили, что это восходящая звезда, – красивая, лёгкая, стройная. Всех восхищало, как она после кинжального удара Хозе (его пел невзрачный М икиша, тенор довольно посредственный) «колбаской» скатывалась с лестницы, ведущей в цирк, ступеней восемь. Особенно же пленил меня бравый, рослый Эскамильо, его пел Политковский, умерший совсем недавно, на десятом десятке жизни. Дома я долго и увлеченно рисовал на бумаге эпизоды из оперы, прежде всего солдат в невиданных конусообразных касках.
Недавно я размышлял: многие классические оперы на моей памяти как бы потускнели, перестают ставиться, а главное – нравиться. Это касается не только опер Мейербера и Гуно или нашего Даргомыжского, но даже исключительно популярных у публики времен моей юности опер Римского-Корсакова. «Кармен» же, сколько её ни слушаешь и ни смотришь, по-прежнему увлекает (кроме нудных, сентиментальных сцен с Микаэлой); кажется, что она написана только вчера, настолько опера не утратила своей свежести. Бесспорно, так будет и в XXI веке, когда огненную партию Кармен станут исполнять певицы, сейчас даже еще не родившиеся, а затем певицы, матери которых пока еще не родились.