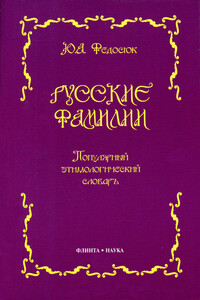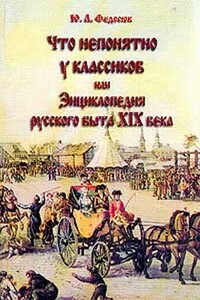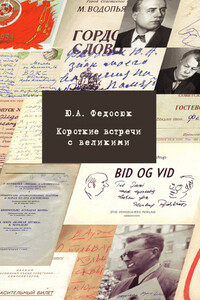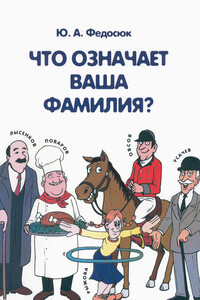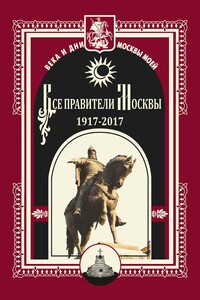После окончания Финской войны (март 1940 года) положение выправилось, но прежнего уровня торговля не достигла. В воздухе запахло большой войной, уже бушевавшей на Западе, и это, бесспорно, заметно сократило поток из «рога изобилия»: надо было делать большие государственные запасы.
С присоединением Прибалтики в кондитерских магазинах появились эстонские и латвийские конфеты. На вкус они были много хуже наших, но красивая упаковка, красочные обертки создали им некоторую популярность, их быстро расхватывали как интересную новинку: как-никак «заграничный товар».
Из особенностей розничной торговли предвоенной Москвы напомню о торговле в разлив, наряду с хлебным квасом, брагой. Кружка этого коричневого, вкусного, немного хмельного (но меньше, чем пиво) напитка стоила 50 копеек, и мужская часть населения вкушала его весьма охотно.
Начало Великой Отечественной войны не привело к опустошению московских магазинов, снабжение оставалось нормальным – очевидно, научил урок Финской войны, В августе 1941 года ввели карточки. Их отменили только 1 января 1947 года, одновременно с проведением денежной реформы, когда ввели в обращение новые денежные знаки, они обменивались в масштабе 1 к 10 старым, то есть за старый червонец выдавали новый рубль. Разменная же монета сохраняла свою прежнюю стоимость.
Театр вошел в мою жизнь очень рано. Еще в Ленинграде, лет пяти отроду, я повидал в Мариинском театре фокинский балетный спектакль «Петрушка», «Жар-птица», «Шопениана»[36]. В «Петрушке» запомнился балаганный дед, показывавший куклы в левом углу сцены, сам Петрушка, но не русский, а в костюме Пьеро; в «Жар-птице» – витающая в пурпурной пачке балерина, освещенная ярко-красным цветом; в «Шопениане» ничего не запомнилось. На следующий день я нацарапал маминой сестре письмо о виденном, указав название тройного спектакля. В слове «Шопениана» я без всяких задних мыслей вместо «Ш» написал «Ж» (так послышалось), что послужило предметом добродушных насмешек взрослых.
В Москве театральные впечатления тоже начались с музыкальных спектаклей. Сначала «Эсмеральда» в Большом театре со знаменитой Екатериной Гельцер в заглавной роли. Особое впечатление произвело то, что на сцену она выходила с настоящей, живой козочкой. Очень тяжело было видеть бедную Эсмеральду в рубище, с распущенными волосами, когда её вели на казнь, зато увлекло зрелище горящего собора Парижской Богоматери. Феба танцевал муж Гельцер – Василий Тихомиров, красивый, прекрасно сложенный мужчина в алом трико. Обоим много аплодировали, успех постановки был велик. Однако дома у нас Гельцер не столько восхищались, сколько осуждали: выходить на сцену, изображая молоденькую девушку, в столь преклонном возрасте! Гельцер тогда было 50 лет, но она сохранила и грацию и легкость.
Слыша осудительные в её адрес разговоры, я сочинил двустишие: Гельцер душка, да старушка. Взрослым понравилось, его цитировали гостям и тем, к кому мы ходили в гости.
Затем я снова повидал ту же Гельцер в первом революционном балете – «Красном маке» Глиэра. Его поставили к десятилетию Октябрьской революции. Тут меня прежде всего поразил новый занавес театра: старый, с изображением какой-то колесницы, вокруг которой плясали вакханки и амуры, и разбросанных цветов, то есть, как сейчас понимаю, в духе французского рококо, стал использоваться только между картинами. Новый же представлял собой монтаж рекламных плакатов всякого рода торговых объединений. Он призывал подписываться на заем, пить «Ессентуки», а заодно – армянские коньяки, покупать изделия Москвошвея и посещать дорогие рестораны. Разглядывать и читать его было очень занятно, но к театральному действу он никакого отношения не имел. Новый занавес являл собой дерзкий вызов классическому театральному антуражу императорской эпохи и, разумеется, звучал диссонансом на фоне золоченых лож и малиновых штофных обоев.
Театр Ш. Омона на Большой Садовой ул.
В 1920—1930-е гг. в этом здании помещался театр В.Э. Мейерхольда.
С 1940 г. на этом месте находится Концертный зал им. П.И. Чайковского.
Рекламный занавес Большого театра.