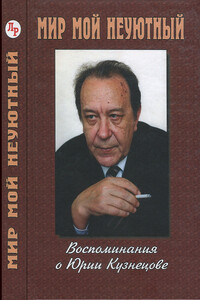Я сызмальства был «околобульварным жителем»: наш переулок выходил на Покровский бульвар. На этом бульваре ребенком я играл в мяч, потом пересекал его, идя в школу, в Большой Вузовский переулок[21], а в студенческие времена гулял здесь или сидел на скамейке, беседуя с приятелем.
Однажды в теплую зиму 1940–1941 года, возвращаясь домой после студенческой пирушки, поздно вечером я долго сидел на бульварной скамейке с молодым поэтом Михаилом Кульчицким. Крупный, широкоплечий Михаил, сильно, но приятно подвыпивший, никак не отпускал меня, читая свои стихи:
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным,
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом…
Стихи молодого харьковчанина сменялись признаниями: «Мы с тобой не пропадем, Юра! Ты богатырь, и я богатырь».
Но богатырем был он, а никак не я, потому-то, наверное, он вскоре и пропал навсегда – погиб под Сталинградом в январе 1943 года, оставив после себя несколько прекрасных стихотворений. А не погиб бы, то, уверен, превратился бы в крупного поэта.
Чистопрудный бульвар.
Открытка 1938 г.
В начале августа 1941 года, накануне ухода в военкомат, светлым вечером я в одиночестве вышел прогуляться на Покровский и Яузский бульвары, особенно мне дорогие, поразмыслить наедине, попрощаться с местами детства и юности. Посидел молча на одной из скамеек Яузского бульвара, но недолго – всё настроение испортила какая-то приставшая девка.
…В сентябре 1945 года я приехал из Германии в Москву, было очень рано, часов шесть утра. Не желая будить родных, не торопясь, я прошелся от метро «Кировская»[22] и долго сидел, осмысляя прошедшее, на первой от Казарменного переулка скамейке Покровского бульвара. Наконец, в половине восьмого, решился пойти в родную квартиру, где все давно уже были на ногах, попал к завтраку, но радость встречи несколько нарушил посторонний – гость из Ленинграда, слепой Слава Бершадский, мать которого была из рода князей Кропоткиных.
В Ленинграде не было бульваров, во всяком случае таких бульваров. Потом я убедился: хваленые парижские и венские бульвары, узкие и пыльные аллейки, – ничто по сравнению с московскими! Мало кто ценит и осознает, какое это украшение Москвы. Когда в 1937 году разнесся слух, что тогдашний председатель Моссовета Булганин решил уничтожить бульвары, дабы в случае войны на их месте могли бы базироваться или при необходимости садиться наши боевые самолеты, люди были крайне встревожены. Только-только убрали сады и бульвары Садового кольца, но то не вызвало особого огорчения. А вот Бульварное кольцо, или, как его еще называли, кольцо «А»… Я чуть не заплакал, представив себе вместо Покровского и иных бульваров широкий, голый проезд. К счастью, обошлось.
Как-то, уже после войны, я ехал на трамвае «Аннушка» по Бульварному кольцу. Рядом сидела провинциальная девочка лет десяти, жадно прильнувшая к окну. Вдруг она громко и удивленно сказала матери: «Мама! Какой сад длинный!» Только новизна восприятия могла породить такое определение. Действительно, Бульварное кольцо – необыкновенно длинный сад.
Сады на Садовом кольце. Садово-Кудринская ул.
Фотография 1930-х гг.
Каждый бульвар имел и имеет свое лицо. Общими тогда были сетчатая ограда, простоявшая до 1947 года, когда её заменили современной чугунной, с особым рисунком для каждого бульвара; афишные тумбы, неведомо в какое время и для чего исчезнувшие; круглые железные писсуары в некоторых местах (видны были только ноги посетителей) да турникеты на выходах, с вспыхивающей при приближении трамвая надписью на табло: «Берегись трамвая». Зачем нужны были турникеты, мне до сих пор неясно. Отец объяснял: чтобы на бульвар не заезжали телеги и пролетки с лошадьми. Но они спокойно могли бы въехать на бульвар в его начале и конце.
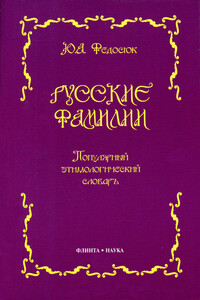
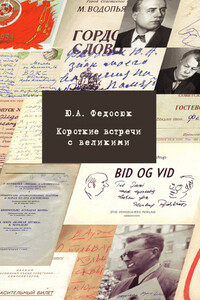
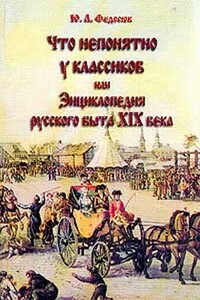
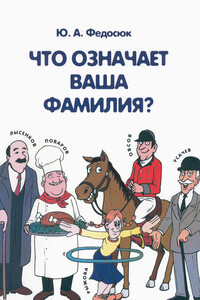

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)