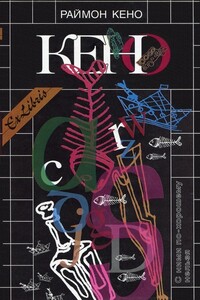— По телевизору любовью никогда не занимаются, — замечает Люсет.
— То есть вообще никогда не занимаются, — говорит Йолант.
— Как вы глупы, — говорит Бертранда, — это ведь потому, что его смотрят ребятишки.
— Ты своим позволила бы смотреть сколько хочется? — спрашивает Сигизмунда.
— Только то, что просвещает, — отвечает Йолант. — Особенно новости. Так они узнают историю Франции и даже всеобщую историю.
— Это как же? — спрашивает Люсет.
— А вот как: ведь сегодняшние новости — это завтрашняя история. По крайней мере именно ее им предстоит учить в школе, поскольку они уже будут ее знать.
— Ну, старик, ты говори, да не заговаривайся, — возражает Люсет. — История никогда не была новостями, а новости — историей. Не смешивай Божий дар с яичницей.
— Да нет, вот именно, что надо смешивать. Давай разберемся. Представь, будто ты сидишь перед телевизором и видишь — я подчеркиваю, именно видишь — живого Люсьена Бонапарта[*], что звонит в колокольчик, его брата в углу, орущих депутатов, врывающихся гренадеров, — словом, ты присутствуешь при девятнадцатом брюмере. После чего ты отправляешься на боковую, спишь сто лет без просыпу, просыпаешься, и вот в этот момент девятнадцатое брюмера стало для тебя историей и тебе вовсе незачем копаться в книгах, чтобы вбить себе в башку всю эту брюмерзость.
— Ну ты даешь! — говорит Сигизмунда. — Ведь в то время телевизоров-то не было.
— Согласен, — говорит Йолант, — тогда возьмем кинохронику: иногда нам показывают старую. И вот там ты видишь, как царь Николай пожимает руку Пуанкаре, такси на Марне[*], Вильгельма II, кронпринца, Верден, — что это как не история? А ведь когда-то это было новостями.
— Было и есть, — говорит Люсет. — Доказательство — то, что ты смотришь это в кино и что тебе объявляют: это новости.
— Ну и глупо, — говорит Йолант. — Тогда что же такое история?
— Это когда она написана.
— И верно, — говорит Бертранда.
— Он прав, — говорит Сигизмунда.
— Тысячу раз прав, — говорит Ламелия.
Йолант хлопает по столу.
— Эй, поаккуратней, не опрокиньте укропную настойку, — предупреждает Сидролен.
Йолант хлопает по столу поаккуратней, стараясь не опрокинуть укропную настойку. К жесту он присоединяет слово:
— Ну что вы тут все — безмозглые, что ли, не доходит до вас, что я хочу сказать?!
— Мы все прекрасно поняли, — говорит Бертранда, — только все равно это идиотство.
— Да ты поразмысли хотя бы минут пять, напряги мозги! В один прекрасный день, например, в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году, некие люди подписали перемирие...
— Ну, предположим.
— ...и это засняли киношники. В тот день данное событие было новостью, а потом, после, теперь, к примеру, оно стало историей. Ясно, нет?
— Нет, — говорит Люсет. — Никак не выходит: потому что эти твои новости — ты их видишь не в тот момент, когда дело происходит. Ты видишь их иногда неделю, иногда две недели спустя. Есть даже такие кинотеатрики, где тебе покажут «Тур де Франс» в ноябре месяце[*]. Так вот, при этих условиях — в какой же момент новости становятся историей?
— Да тут же, сразу! Тотчас же, presto subito![42] Телевидение — это новости, которые застывают, как желе, и становятся историей. Сделано — сказано.
— А когда еще не было телевидения, — спрашивает Сигизмунда, — не было, значит, и истории?
— Вот видишь, — говорит Люсет, — это тебе и крыть нечем.
— Может, выпьете еще укропной настойки? — предлагает Сидролен.
— Ну а ты, папа, — говорит Ламелия, — ты что об этом думаешь?
— Я? У меня телевизора нет.
— Знаем, знаем, — говорит Бертранда, — потому-то мы и объясняем Ламелии, что тебе следовало бы подарить ей телевизор, — так она будет меньше скучать.
— Да, но раз она только и думает о том, как бы ей заняться любовью... — возражает Сидролен.
— По телевизору, — говорит Люсет, — любовью никогда не занимаются.
— То есть вообще никогда не занимаются, — говорит Йолант.
— Как вы глупы, — говорит Бертранда, — это ведь потому, что его смотрят ребятишки.
— Ты своим позволила бы смотреть сколько хочется? — спрашивает Сигизмунда.
— Только то, что просвещает, — отвечает Йолант. — Особенно новости. Так они узнают историю Франции и даже всеобщую историю.