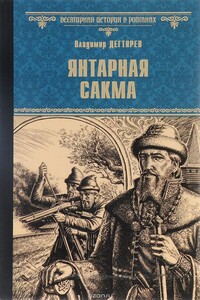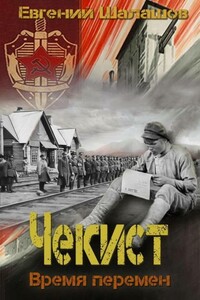Иван придержал обмякшее тело и усадил парня туда, где он и сидел. Поднял с пола слетевшую фуражку, аккуратно водрузил ее на голову сидевшего, чтобы козырек скрыл набухавший кровоподтек. Опять же, обшарил карманы незадачливого дежурного, выгребая оттуда патроны, деньги и кусок хлеба. Прикинув, что с двумя наганами да тремя дюжинами патронов жить можно, Иван повеселел. То, что в одночасье из демобилизованного командира он превратился в "беглого преступника", конечно, не радовало. Но что делать? Если всего бояться, то проще сразу взять ствол чекистского револьвера да сунуть его в рот, чтобы не думалось. А вот, хрен вам! Не для того он прошел войну, революцию и еще одну войну, чтобы стреляться, как пленный офицерик! Попы говорят — грех самому себя жизни-тο лишать! Но долгогривые много что говорят, а за столько лет войны Иван уже не верил ни в грех, ни в ад с раем. Хуже ада, что был под Барановичами или под Перекопом, уже не придумать. А рай… А чё в нем, в раю-то, хорошего?
Без приключений выйдя со двора на бывший Воскресенский, а теперь уже Советский проспект, Николаев в задумчивости постоял, думая, куда бы податься. Ехать в деревню? Там-то и будут искать в первую очередь. Искать Лешку Курманова? Так тот раньше полуночи домой не явится. А коли и явится, так неизвестно, что скажет товарищ начальник управления губисполкома. И еще надо было срочно найти шинель и фуражку! В одной гимнастерке, без пояса, Иван чувствовал себя дезертиром.
Торговая площадь, втиснувшаяся между каменной стеной бывшего подворья Леушинского монастыря и кладбищем, во время Гражданской войны превратившаяся в пустырь, опять ожила. Хотя день был непраздничный, но народу толпилось много. Торговали всем подряд — проросшей картошкой и гвоздями, кубанским салом и подсвечниками, солеными дынями из Астрахани и расписными матрешками.
Самым длинным был рыбный ряд. Разбитные молодки и степенные бородачи разложили на лотках осетров и севрюгу, белорыбицу и стерлядь.
Почему-то при упоминании Шексны все вспоминали о стерляди. Даже ротный командир Слащев (тот самый, что потом армией у Врангеля командовал), заслышав, что он родом из Череповецкого уезда, где течет река Шексна, хмыкнул: "Шекснинска стерлядь золотая!" Верно, если ее в постном масле обжарить, до хрустящей корочки, так и будет золотой.
Около прилавков с рыбой толклись коты. Вели себя чинно-благородно, словно семинаристы на каникулах — не мяукали и не пытались ничего спереть, а только выжидательно заглядывали в глаза людям. Продавцы время от времени порыкивали, но подбрасывали мохнатым попрошайкам то хвост, то голову. Торопливо проглотив угощение, хвостатики подходили за новой порцией. Чуть в сторонке сидела и тщательно умывалась рыжая кошечка — стеснялась подойти ближе. Не выдержав, Иван, купил небольшую стерлядь и бросил рыжей. Та, даже не поблагодарив, ухватила рыбину и потащила в кусты. Вдогонку помчались двое драных котов, но Николаев, заступив им дорогу, цыкнул так, что невежды поджали хвосты.
— Вон еще один сердобольный нашелся! — весело выкрикнула одна из девок-торговок, а наткнувшись на укоризненный взгляд Ивана, объяснила: — Муська-то, которая рыжая, сидит тут, скромничает. Вон, все ее и жалеют — по целой рыбине дают. За сегодня уже третью схарчила.
— Так ведь котята у Муськи, — заступилась за кошечку другая торговка, пожилая. — Лбы здоровенные вымахали, а мамка им до сих пор еду таскает.
— Ниче, пускай побалует деток, — усмехнулся Иван в усы. Ну, все, как у людей!
На базаре можно купить что угодно — хоть пулемет "Максим", хоть голую бабу, а хоть медведя в шерсти. Народ тоже стоял разный. Миловидная женщина продавала офицерский мундир без погон, а чопорная старуха в черном балахоне, похожая на монахиню глиняные свистульки. Старорежимного вида дед, при шляпе и очках, разложил на замусоленном платке сахарные петушки на палочках, а красномордый мужик в поддевке пытался продать две стопки книг в добротных кожаных переплетах и ящик журналов. Иван, из любопытства взявший один из журналов, хмыкнул, обнаружил, что держит в руках "Ниву" за 1914 год. Полистал, глянул на яркие картинки, повествующие, как русские поддают жару австриякам, положил обратно и, не обращая внимания на уговоры продавца, пошел дальше. Иван раза два отмахивался от девок, предлагавших зайти в ближайший сарайчик, и от парня в телогрейке, из-под которого торчала драная тельняшка. Морячку, признавшему в Николаеве фронтовика, хотелось выпить и поговорить "за жизнь". Николаев вышел к утоптанной площадке, обнесенному забором из жердей — конному ряду. В загородке дремала каурая лошадка, вполне почтенного возраста. Хозяин — цыганистого вида мужик, о чем-то горячо спорил с двумя крестьянами. До уха донесся возглас: "Вай, чавела! Огонь лошадь, шестилетка! Устала только! Двести пудов — даром отдаю!"