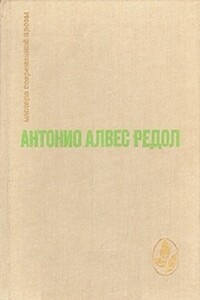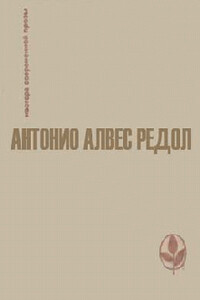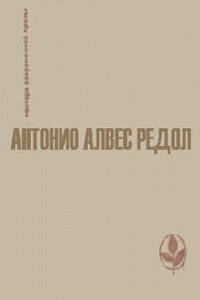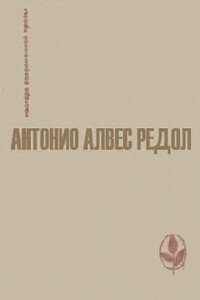Видно было, что он еще не совсем мне верит.
— Ну, пусть будет так! — снисходительно уронил он наконец. — А все же со мной было все по-иному. Выгнали меня, значит, из поместья взашей раным-рано, солнце еще встать не успело. Долго я шел, уж и ноги у меня огнем гореть зачали, а на сердце такая горесть, такая бесприютность, позабыл я даже, что за весь день у меня маковой росинки во рту не было: нигде я остановки не делал, чтоб хоть на кормежку себе заработать. Так и шел с одеялом через плечо да котелком в руке. Иду, а слезы ручьем катятся. Не стыжусь вам признаться в этом, сеньор. Поди в вашей-то жизни такого не случалось, чтоб остались вы на земле совсем один, без родных, без друзей? — Последнюю фразу он произнес почти угрожающим тоном.
— Пожалуй, со мной так не бывало.
— Еще бы! У вас даже здесь друзей полно — все эти… И не старайтесь меня обмануть, я знаю, что вы с ними заодно. Такие люди, как вы, даже если их к стенке ставят, не умирают в одиночку. А вот мне, видать, до конца дней моих суждено одному маяться. А что есть тяжеле этого? Или вам, сеньор, известно что и похуже? Да что это я, право, все вас пытаю, откуда вам знать про такое…
— Но у тебя же есть Нена?
— Да только она и есть. Но ведь без друзей тоже невмоготу. Друзья-то поди еще нужней человеку. Я, было время, и знать-то не знал, какая такая дружба, и только посмеивался: что еще, мол, за друзья такие? С чем ее едят, эту дружбу? Дескать, все это — пустая болтовня. А бывали дни, что я всех ненавидел — всех людей, как есть… Ох, эта ненависть, будь она проклята!
Внезапно он понизил голос и заговорил так тихо, что я с трудом мог его расслышать:
— В тот день вправду во мне что-то сломалось. И такое, что я и сам в себе до той поры не подозревал. Вроде и смеялся я по-прежнему, и на жизнь все еще смотрел без боязни, а чувствую — не тот я. Будто прежде я верил во что-то — и вдруг нет ничего, пусто. Самое худое, что уж тут коли сломалось — конец: не починить. Я так полагаю, что сердце у меня тогда ожесточилось.
— Почему ты так думаешь?
— Да по всем моим делам видать — чего я только потом не творил! Здесь вот все ко мне навязывались с защитником, — мол, положено так, чтоб защищали подсудимого, а мне на это наплевать: к чему я себя стану выгораживать, ведь святая правда, что я с того самого дня не хотел больше быть ни хорошим, ни добрым. — Он отвел глаза и уставился в стенку. — Я мог бы сказать все это на суде.
— Если тебя будут судить… Разве тебе твой капитан не передавал через кого-нибудь, что он хлопочет о твоем освобождении?
— Он мне сам про это на свидании говорил.
— Ну вот видишь…
— Ежели они меня отсюда и вызволят, то не для хороших дел, уж будьте покойны.
— Может быть, они хотят пристроить тебя в концлагерь надзирателем?
Он обрадованно заулыбался, а у меня зачесались руки от желания закатить ему пощечину. Но я сдержался.
— А этим, как их, надзирателям, им приходится убивать людей? — вдруг спросил он меня, когда я уже поднялся, чтоб закончить этот разговор.
— Не знаю. А что?
— Я не могу больше убивать людей. Опять по ночам, нет, не могу…
— Не вижу особой разницы, когда убивать: ночью или днем, — с иронией ответил я. Мне хотелось дознаться, откуда в нем этот панический страх перед ночными расстрелами.
— Это вы, сеньор, так говорите, потому что вам не доводилось убивать по ночам. Ночью у мертвецов такие лица… Днем мертвец — мертвый, и все тут. Вреда от него никакого. А ночью так и слышишь их шаги у себя за спиной, и чудится, только оборотись — и они схватят тебя за плечи. А глаза у них… Ничего страшнее я в жизни не видывал. Однажды ночью пришлось мне прикончить зараз уйму народу — я вам не рассказывал про это, сеньор?
Но у меня уже не было сил слушать дальше. Я встал, чтобы уйти. Он поднялся вслед за мной. В отчаянии я заткнул уши, не зная, как отделаться от этой трагической назойливости, которая будила во мне воспоминания о другой войне, навсегда отравившей мою юность.
В эту минуту дверь камеры отворилась, и появившийся на пороге надзиратель, тот самый толстяк с добродушным лицом, окликнул Сидро: