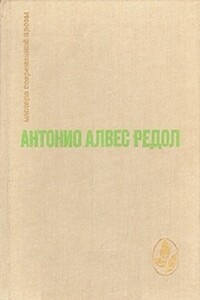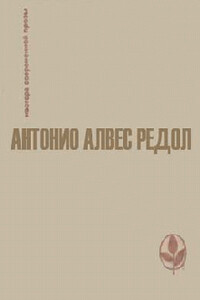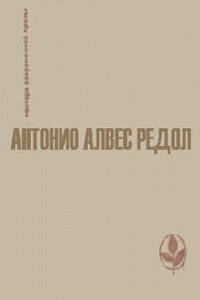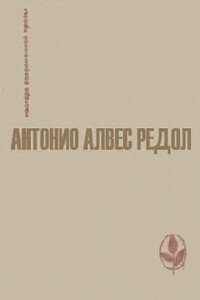Кривой Жозе встретил его приветливым жестом, как бы говоря: «Добрый вечер, парень, не серчай, что было, то было». Затем он ввалился в артельный барак, как всегда с шумом и грохотом, — наплевать ему было, что кто-то там трясется в лихорадке или мучится любовной горячкой, как та высокая, в желтой кофте. Едва завидев Арренегу, она повисла на нем и увлекла его далеко в поле, где в эту ночь не было нужды зажигать лампу,
…И я напишу твое имя
на ясеневом листке.
Нет, он унесет это имя в своем сердце, или пусть его вышьют на платке, в который он завернет букетик полевых цветов, как это делают девушки из Глории, те, что сейчас едут на запряженной волами телеге через всю Шарнеку к себе домой. В бараке у Кривого Жозе тоже будто все вымерли: видно, увез староста дочку, зря он только бумагу ей на письма изводил. Все разъезжаются по домам; вон поехали девушки из Фороса: на голове — мешок, на плече — серп, юбки — колоколом, те самые, в которых они отплясывали нынче ночью, пояс туго перетянут алой лентой, такой яркой, что кажется, в ней еще пылает любовный жар всех ночных свиданий, — мало ли их бывает в жатвенную пору…
«А здорово мне подвезло с этой работой», — думает Сидро, наблюдая, как механик в комбинезоне тщательно проводит последнюю красную полосу по желтому фону свежевыкрашенной молотилки. Трактор уже ревет, заглушая неистовый трезвон обезумевших цикад (вот растрещались, неугомонные!), теперь только наладить передаточные ремни да запустить барабан молотилки — и готово, а люди давно уже все на местах. Сидро с двумя женщинами на подноске снопов, остальные будут отвозить солому и оттаскивать на веялки намолоченное зерно. Жеронимо на пару с другим рабочим орудует у соломопресса. Управляющий обещал всем выпивку, если быстро управятся, и теперь все с нетерпением ждут сигнала от механика, который чего-то все еще возится с трактором.
— Ну как, начали?
— Начали!
— Ну, в добрый час, за работу, — кричит управляющий.
Задавальщик развязывает первый сноп, за ним — второй, третий, и вот уже льется из барабана золотое зерно, а отброшенная солома течет по транспортеру: ее трусят, прессуют и, наконец, ловко складывают в кипы… Все живет и движется в одном ровном и точном ритме, который все убыстряется и убыстряется, словно барабан сообщает свою скорость движениям людей. Рев молотилки перекрывает голоса, слышны только отдельные слова и возгласы, Жеронимо Арренега почти совсем исчез в облаках пыли. Все обливаются потом. Темп нарастает с каждой минутой. Сам-семь — чистое разорение, но вдруг да откуда-нибудь придет помощь…
В гуле машин все так же неумолчно звенят ополоумевшие цикады. Все работают без передышки, как заведенные.
«Хлеба, хлеба!» — эта немая просьба застыла на лице задавальщика с цветастым платком на шее.
«Хлеба, хлеба!» — требуют руки рабочего с вилами.
И огромные снопы один за другим падают в руки Рыжика и двух его напарниц. Задыхаясь под их тяжестью, они все носят и носят снопы к молотилке, но даже сейчас Рыжик не перестает думать о том, что скоро наступит ночь и он узнает наконец, что такое настоящее приключение. Механик следит за работой трактора. Наполняются зерном мешки, выбрасываются обмолоченные снопы, и мякина летит, кружится и темными оспинами налипает на потную кожу.
«Хлеба, хлеба!»
«Хлеба, пусть будет больше хлеба!»
«Скорей, скорей, даешь хлеб!»
Головокружительный, исступленный ритм. Люди действуют как автоматы; их движения бессознательно заучены, все слилось в один бешено вертящийся круг: руки, ремни, барабан… Сидро, захваченный этим круговоротом движений, ликует: вот это да, это работа для мужчины, не то что в лавке или даже в кузне! Ухватить снопище, запихать его в барабан, и смотри, как он переваривается в брюхе этого желто-красного чудовища; а оно его трясет и треплет, будто живое, с головой, руками, глазами, словно внутри у него спрятались маленькие человечки и командуют зернам: «А ну, разберись по одному!» — и велят соломе отделиться, а потом гонят ее дальше, к другим спрятанным человечкам, а те подхватывают ее и прессуют в кипы. Только знай поворачивайся, да живей, бегом; от тяжести уже отнимаются руки, а снопов еще таскать не перетаскать из огромной скирды с шестом, на котором полощется красная тряпка. Ее цвет напоминает Сидро о маках, — сколько их было на прощальной вечеринке! Девушки чуть не утопили в них музыканта, когда он появился на празднике со своей новенькой гармоникой.