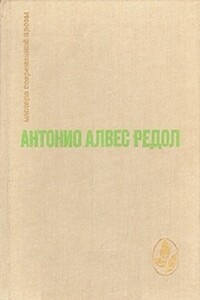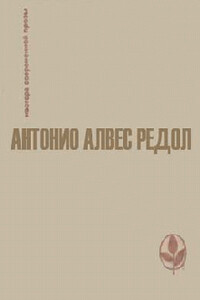ПИСЬМО
Алсидес весь светился, когда, забившись в угол, писал письма своей Нене. Он преображался, делался неузнаваем; лицо его представлялось мне стеклом, на котором пляшут лунные блики.
Алсидес всегда писал стоя, уединившись. Остальные сидели за длинным столом, где мы обычно собирались группками, объединенные скорее личными симпатиями, чем национальностью, или играли потихоньку от надзирателя в шахматы из хлебного мякиша.
Я был ровен со всеми, скрывал свои симпатии и потому держался угрюмо, считая необходимым сохранять панцирь молчания и подозрительности, в который облачился еще в одиночке. Я вижу, что перестарался. Теперь мне самому кое-что в моем повествовании кажется нелепым. Например, рассказ о старике с шарфом. Я пока не имею права говорить все, что о нем думаю, и потому его появление в романе, на мой взгляд, необоснованно. Но обойти старика молчанием тоже нельзя. Слова жгут меня при одном лишь воспоминании о нем, ведь мы так и не встретились больше. Сколько воды с тех пор утекло!
Однако я отвлекся. Я уже сказал, что замыкался в себе. И потому меня не любили.
Одно время — я это понял — меня даже принимали за осведомителя гестапо. Возможно, полицейский выполнил свою угрозу и убедил их, что я предатель.
Я ушел в себя, стал еще более одиноким, чем в карцере, там были хоть черточки на двери, по которым отсчитывал дни мой предшественник, там были окрыленные верой или полные отчаяния предсмертные надписи расстрелянных.
Я обособился от других заключенных; писем мне не писали — и это, видимо, привлекло ко мне внимание одного отвратительного типа. Его посадили за торговлю на черном рынке; тюремщики открыто ему покровительствовали. Это был низенький пухлый человечек, одевавшийся в яркие пижамы дамского покроя. Он душился, не стриг волос под предлогом, что его никто не видит, и откровенно увивался около тех, кто, по его мнению, привык к комфорту. Увидев, что у меня только одна смена белья, он предложил мне две рубашки и брюки. (Кто мог прислать мне белье, если Мишель понятия не имела, где я нахожусь?) Я с возмущением отказался, он настаивал. Он перестал ко мне приставать, лишь когда в камеру поместили аргентинца и они подружились.
Два раза в месяц разрешали писать. В тот день камера погружалась в сосредоточенную тишину. Каждый пребывал наедине со своими воспоминаниями, и все уважали это обращение к прошлому. Я никому не писал, и поэтому мне доставляло удовольствие угадывать жизнь товарищей по их поведению.
Лицо моего земляка озарялось ласковой улыбкой. Он никогда не писал за столом, потому что опасался, как бы кто из соседей не заметил его переживаний. Он пристраивался в углу, где прежде стояла бочка с водой, и писал там в одиночестве, загораживая локтем бумагу. Едва окончив абзац, он спешил ко мне. И читал неторопливо, ласковым шепотом, В эти минуты он был совершенно другим человеком,
«Любимая моя Нена!
Здравствуй! Я знаю, что каждый час приближает нас друг к другу, расстояние между нами все меньше, и я уже начинаю тебя видеть. Я вижу тебя в том самом платье с зелеными цветами, что я тебе подарил, и ты пришила к нему малюсенькие такие пуговки, похожие на жемчужинки, и я еще сказал тогда, что подарю тебе ожерелье из маленьких жемчужинок, что видел в Касабланке. Я тебя уже вижу и надеюсь, что ты не забыла посадить у нашего дома лиственницу, чтобы я мог полежать под ней, мне так надо отдохнуть около тебя; ты со мной, и вокруг запах полей, я помню его наизусть, как школьники таблицу умножения».
Когда он снова подошел ко мне и стал читать, выделяя голосом каждый новый абзац, я почувствовал, что он, пожалуй, согласится на предложение полиции.
«Я ближе к тебе, потому что скоро меня обещали совсем выпустить на свободу, а как подумаешь, что свобода — это ты, и тенистое дерево, под которым я смогу отдохнуть, и запах полей, и твои руки в моих руках, сразу ясно, что мучаюсь я не зря и то, что я сделал, сделал бы любой честный человек, а тебе лучше меня известно, какой я хороший и какой был храбрый на войне. Viva la muerte!