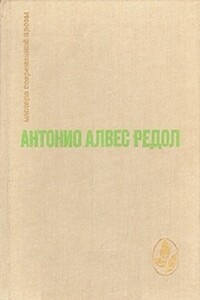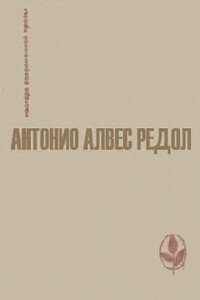Глава четвертая
Неблагодарные будут гореть в геенне огненной
Так изрекла вдова Маркитас, обращаясь к незамужней сестрице, когда услыхала, как Мануэл Кукурузный Початок буркнул, сходя с лестницы:
— Черт бы их всех побрал, и сына-то отняли.
Мануэл подумал, что никто его не слышит, и лишь чуточку отвел душу, самую малость, а ведь дай он себе волю, — гром и молния! — так целому отряду полиции с ним не сладить!
Нет, неблагодарным он не был и никогда не будет, признался мне как-то вечером Мануэл: я проходил мимо конюшни, а он стоял у ворот и поверял самому себе хмельную свою кручину. Мы частенько беседовали, он любил рассказывать о моем деде Венансио, у которого был учеником, а может, и приятелем, потому что некто иной, как Мануэл Кукурузный Початок, отвозил мою мать в церковь крестить меня. Таким доверием он не мог не похвастаться. А потом вспоминал о затрещине, которой однажды угостил его мой дед, о поездках в Буселас, куда он отвозил подковы для лошадей и быков, и, уж конечно, о том, как его прогнал Кадете, отъявленный плут и мошенник, только за то прогнал, что он, Мануэл, разрешил Дамскому Угоднику попользоваться его свадебной каретой для укромных встреч с одной севильяночкой, которая исполняла в кинематографе в Вила-Франке «танец с кастаньетами». И потому, что какие-то обормоты прозвали карету «публичным домом», этот негодяй вышвырнул его на улицу; прозвищем, видите ли, оскорбился. Больше всего задело его то, что Кадете и слова не сказал Дамскому Угоднику, ведь тот был клиентом, а его, Мануэла, преданного кучера, — второго такого днем с огнем не сыщешь, — прогнал как собаку.
Но в тот вечер конюху было не до разговоров. Маркитас, любящая ставить точки над «i», пропесочила его за то, что он выругался на лестнице, обвинила в черной неблагодарности, а напоследок так прямо и заявила, что, ежели он жене своей желает смерти (она, бедненькая, все еще в больнице мается), пусть берет сына.
— Ума не приложу, как быть, — твердил Мануэл Кукурузный Початок, яростно теребя бороду.
Он понимал, что ему повезло, и ребенок должен остаться у старух, пока не поправится Мария. Разве он придурок какой? Мальчишку нарядили, как принца, дали ему кормилицу, даже колыбель заказали.
— Да уж, носятся там с ним, как с писаной торбой, ничего не скажешь. Только б не испортили телячьими нежностями. — И Мануэл умолк, обуреваемый сомнениями, которые не в состоянии был выразить словами. И вдруг его прорвало:
— Хочешь взглянуть на сына, кровинку свою, хоть и прозвали его люди Младенец Иисус… Ан не тут-то было — «ребенок спит», а после зайдешь — кормят, еще заглянешь — купают… Держат в воде, будто рыбу какую, моют, моют. На черта его так вылизывать? Когда я впервые свое дите увидел, мне и потрогать-то его не дали; руки, вишь ты, у меня грязные. Где такое видано?
И он протягивал мне руки, черные и мозолистые.
— Руки у меня рабочие. Я лошадок своих скребницей чищу, и вода мне нужна разве что для них. А в чистюли я не записывался…
Он потащил меня к скамье и заставил сесть. А сам встал напротив, словно боялся, что я его не вижу. Разговаривая, он беспрестанно мигал и кривил окрашенные вином губы, словно ему приходилось выдавливать из себя каждое слово.
— Только постучишься в дверь, как тут тебя и оглушит голосок старой девы, он у нее что свисток паровозный: «Манел, вытирай хорошенько ноги». Может, в один прекрасный день они потребуют, чтобы я разувался, будто покаяние на себя наложил? Я уж тут, грешным делом, решил, не хотят ли они нарочно меня разозлить, чтобы я больше не заявлялся?
— Гм, — произнес я с сомнением.
— Я зря болтать не стану… Они уж и к Марии подъезжали, не хочет ли она мальца у них оставить. Она, бедняжечка, от болезни да от стыда съежилась вся. А потом как зальется слезами, лопни мои глаза, коли вру… Только не видать им его как своих ушей. Я страх как им благодарен, я же не скотина бесчувственная, но чтобы с моим сыном, с моим мальчонкой расстаться… Разве это кошка, чтобы взять его и отдать? Статочное ли дело?!