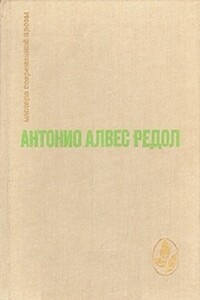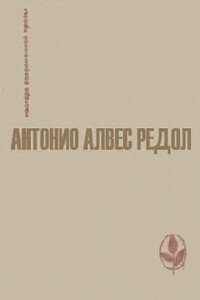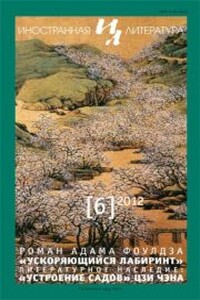— Хочешь попробовать?..
— Я бы у тебя попробовал… все, что захочешь. И не поморщился бы, можешь не беспокоиться. — И, оглядев ее с головы до ног, прибавил — А у тебя есть что попробовать!
Подойдя вплотную к цветастой занавеске, Мануэл Кукурузный Початок пожирал Терезу глазами.
— Какой ты нехороший…
— А почем ты знаешь, хороший я иль нет? Ты не гляди, что я такой щуплый. У меня много чего есть. Больше, чем в Лиссабоне.
— Язык-то у тебя без костей, — засмеялась хозяйка, шлепнув его по плечу.
Ей нравилась эта игра. И хоть вела она себя безупречно, — если верить людской молве, — трудно было сыскать большую мастерицу завлекать мужчин; очень уж их раззадоривал ее острый язычок, статная фигура и этот удивительный пушок над верхней губой, вызывавший всяческие нескромные догадки.
— Ну, так хочешь или нет? — не отставала она, желая посердить грузчиков.
Конюх открыл рот, чтобы схватить хворост зубами, и, не выпуская Терезиной руки, погладил ее с нескрываемой нежностью.
— Мануэл! Это уж ты слишком! Смотри, как бы лошадка не забрыкалась!
Конюх оторопел: его отшили на глазах у всех. И хихикнул, чтобы скрыть охватившее его волнение.
— Я пошутил, Терезинья! Ты ведь знаешь, я человек серьезный.
— А Марию одну оставил, — воспользовалась трактирщица случаем пристыдить его.
Мануэл стал оправдываться: он-де заскочил сюда на минутку, по пути, а за Розой он в момент слетает, одна нога здесь, другая там.
— А может, лучше вы за ней сбегаете? — обратилась Тереза к своим вздыхателям. — Мануэлу надо с женой побыть. Я к ней тоже потом загляну.
Грузчики недоверчиво переглянулись, советуясь друг с другом, и тотчас резким движением встали из-за стола.
Глава вторая,
из которой следует, что не только жеребята рождаются в конюшнях
— Чтоб тебе пусто было, Мария! Чтоб тебе пусто было.
Приземистый и большеголовый, Мануэл, бестолково кружась на месте, оттянул черный ремень на своем отвислом животе и принялся ходить взад и вперед, от двери до кормушки, а сам все косился на застланный соломой угол. Казалось, каменные плиты пола жгут его подошвы.
Было холодно, и лошади в яслях никак не хотели стоять смирно. Он дважды пнул Звездочку, — гнедая кобыла ржала низким, хриплым голосом: ее пугали стоны женщины, однако пинки озлобили животное.
— Ну потерпи чуток, моя девочка!
Мануэл был пьян от вина и от радости, но и его тревожили стоны жены, извивающейся на соломе, будто ее кололи ножом.
— Послушать тебя, чертова баба, так и впрямь решишь, что я тебя смертным боем бью.
Растерянный, он осторожно опустился на колени рядом с Марией и протянул ей бутылку водки, которую всегда держал про запас. Он решил, что от водки боль должна утихнуть, и пошутил:
— Хлебни-ка глоточек, детка, ты ведь мне родишь писаного красавчика и забияку, какого свет не видывал. Идет?! Ну, пей!
И пил сам, прямо из горлышка.
Измученная женщина билась головой об пол, не переставая стонать:
— Ай, Мануэл! Я умираю, умираю!
— Дурочка! Как так умираешь? Отчего? Где это видано? Ты нашего сына родишь — и вдруг «умираю». Почему? Умереть теперь?! Да ты с ума спятила!
Ему хотелось и плакать и смеяться, да он и в самом деле плакал от невероятного счастья, что у него будет наконец сын. Он вытер глаза кончиком мятой, замызганной рубахи, поминутно оглядываясь на дверь, не идет ли Роза, уж она что-нибудь да придумает и освободит его от мучений. «Не годится мужчина для таких вещей, вот как бог свят!..»
На улице послышались чьи-то шаркающие шаги. «Идут», — встрепенулся он. Но тени лишь на миг заслонили и без того тусклый свет фонаря, освещающего конюшню, и сейчас же растаяли в сумраке.
— На рождественскую мессу потянулись.
Ночь выдалась ненастная, мрачная, непроглядная; ветер то стонал в мельничных крыльях, словно у него ломило кости, то, внезапным шквалом обрушиваясь с вершин продрогших холмов на город, хлестал его розгами. Неугомонный, он пробирался во все закоулки, не оставляя в покое даже пристань, где под его напором колыхалась рощица беспокойных мачт.
Подгоняемый шпорами ветра, Тежо глухо ворчал, вздымая смоляные волны; он тоже будто охранял наш прибрежный городок, который так заботливо укутала тьма.