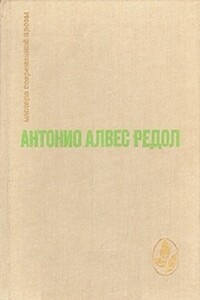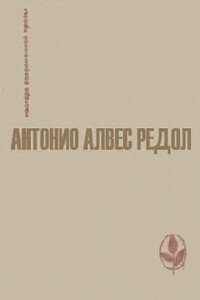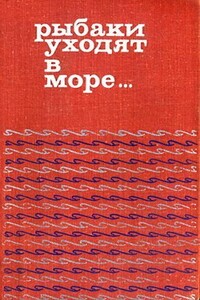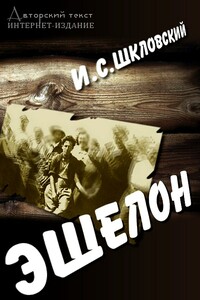Несколько немецких солдат обступили скамейку и пели, взявшись за руки, словно школьники на большой перемене. Завидев меня, они расхохотались и принялись что-то лопотать на своем гортанном языке, осквернявшем Париж. Зеленые — цвета надежды — мундиры, кавалерийские сапоги и свастика.
Подходя к озеру, я сосредоточил внимание на старике. А ведь надо было оглядеться по сторонам. Я шел, как слепец, ничего не замечая вокруг. Нет, я не гожусь для таких вещей. Я увидел его: он стоял у самой воды, на нем был красный шарф, только не так повязанный, как говорила Луиза. Если бы шарф ниспадал свободно, я бы мог подойти. Только тогда… А старик обмотал его вокруг шеи. Меня предупреждали, теперь-то я помню. Я задал условленный вопрос, а он как-то странно взглянул на меня и пробормотал:
— Уходи скорей, кажется, за мной следят.
Но было уже поздно. Стараясь казаться как можно спокойнее, я зашагал медленно, как только мог, а сердце так и рвалось из груди, точно призовая лошадь к финишу. «Хальт!» Это мне. Они заметили. У меня не было с собой пистолета. А если б был, хватило бы у меня решимости обернуться и выстрелить? За спиной зашуршали по гравию торопливые шаги. Я стал насвистывать, потирая руки.
— Ты что, оглох?!
Меня толкнули, я обернулся и увидел, как двое немцев схватили старика. Больше я никогда с ним не встречался. Все время я ждал, что нам устроят очную ставку. Они считали это действенным средством. Но прошло больше месяца, меня перевели в общую камеру и после тех двух допросов больше не вызывали.
Я понимал, что этим дело не кончится. Вероятно, они рассчитывают, что здесь я кому-нибудь проболтаюсь. Что за человек мой земляк? Не служит ли он в полиции? Может быть, это агент гестапо? Спрашивал же он, за что я попал в тюрьму?
— В наше время вообще не знаешь, есть ли у тебя право быть свободным, — ответил я безучастно.
— Что верно, то верно. Это вы в самую точку попали. Но я знаю, за что сижу.
— Это утешительно.
Видимо, сидевшему поблизости заключенному наскучила португальская речь, и, передразнивая нас, он залаял по-собачьи: «А-у, а-у, а-у!» Другие засмеялись; кто-то принялся подвывать.
Тогда мой земляк схватился за воображаемый автомат и прошил всех двумя очередями — глаза его так и горели гневом. А потом вернулся ко мне, и взгляд его стал тоскливым. Временами мне чудилось, будто лицо это — живое зеркало, и я в нем отражаюсь. Должно быть, я тоже такой, и вид у меня затравленный, страдальческий, кожа бледная, и жилы на шее резко обозначились — точь-в-точь два конца веревки на горле.
— У этого типа просто пунктик какой-то — задирать иностранцев, — пояснил он. — Есть французы, которые считают, что и тюрьмы-то для них должны быть отдельные. Вы с ним еще столкнетесь. Ладно, попадешься мне на воле, узнаешь, что почем! Все равно от меня не уйдешь.
Он взял меня за руку и подвел к решетчатому окну.
— Остерегайтесь этого субчика. Его сюда посадили за политическими следить.
Я тут же решил, что он хочет завоевать мое доверие.
— Вам бы занятие какое себе приискать, время убить. Люди здесь с ума сходят от ожидания. Я вот приговора жду. А вы?
— А я жду, когда выяснится ошибка и меня отпустят, — ответил я вяло, бесцветным голосом.
Он улыбнулся.
— В первые дни все твердят, что не виноваты. Один я взял да и рассказал все как было. Я убил человека, и мне его нисколечко не жалко.
— Преступление на почве ревности, — добавил я и прикусил язык.
— Вот так-то, — промолвил он, помолчав. — А вы и не надейтесь, что вас оправдают. Не такое нынче время. Теперь каждый виновен. Частенько они приходят — забрать кого-нибудь на расстрел. Проклятая это штука, знаете?
— Боишься, и тебя прихватят?
— Нет, не в том дело. Они политических расстреливают, а я не политический. Нет, это мне Марокко напоминает. Я там воевал.
Другой заключенный — он сидел в углу, особняком, — затянул испанскую песню. Все смолкли, прислушиваясь.
— Это Гарсиа, испанский партизан. Всем нравится, когда он поет. Вот уж три месяца, как его к расстрелу приговорили. Представляете, каково это — ждать три месяца, зная наверняка, что тебя ничто не спасет?