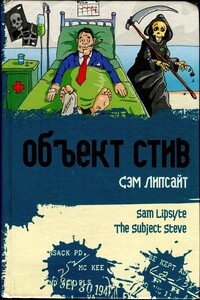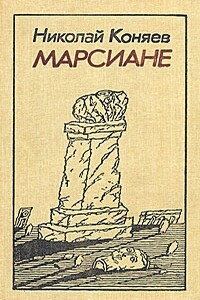Матей Срок срубил маленькую, но уютную избенку, огородил сад, вытесал новый колодезный сруб и все ночи до седьмого пота строгал дранку: покрыл ею двор, гумно, дровяник, амбары и мякинник. А как все поперестроил, поперечинил, выбелил, выкрасил и повыровнял, горячо взялся за другую работу. То ломал спину в поле, то — когда выдавалась свободная неделя — уходил в лес с воловьей упряжкой, или даже без нее, и рядился с десятником за самую ничтожную плату. Вечером возвращался домой изнуренный, взопревший, но счастливый, будто ему опять удалось отогнать невеселые мысли. За теплым ужином улыбался Кристине и, видя, как она всплескивает над ним руками или жалеет его, беднягу, взглядом, говорил убежденно:
— Не бойся, Кристинка, мы не бог весть как богаты, а все ж кому-то после нас будет чем распорядиться…
Она вздыхала, отворачивалась к печи, и лицо ее заливали слезы. Но добряк Матей ее утешал, долго гладил, уговаривал — ив конце концов она успокаивалась.
А тут и люди стали совать свой нос в их дела. И ладно бы чужие — пуще всех не унималась старая Ружена. В долгие дополуденные часы, когда Кристина гнулась над баком с бельем, или вскапывала сад, или кормила птицу, мать нависала над ней живым укором.
— Ну и мужика ты себе отхватила, — говорила она с отвращением, — он тебе и полюбовником-то не был, и поди ж: враз выскочила за него, себя загубила!
— Мама, перестаньте! — вскрикивала Кристина.
— Да разве это мужик, ежели не может тебя обрюхатить?!
— Замолчите, мама, замолчите! — одергивала Кристина мать и, случалось, чуть ли не гнала прочь.
А потом, присев на корточки у крыльца или сгибаясь над колодезным срубом, жалобно плакала. Глядела на студеную, темно сверкавшую гладь, слезы падали в зияющую холодом глубину, зыбили воду, и Кристине чудилось, что колодец вздыхает и всхлипывает вместе с ней.
А хуже всего, когда приходил, всегда нежданно-негаданно, Матеев двоюродный брат — Юло Митрон. Иной раз лишь обопрется о грядушку или о поленницу, ни слова не скажет, а только глядит, как она сполошно снует по двору, как у нее трясутся руки, как вываливаются из них миски, полные зерна, как выплескивается вода из ведер, как выпадают щепки из охапки. Однажды остановился он перед ней, сжал ей сильно руки, глянул в упор глубоким, тяжелым взглядом и вымолвил с отчаянием:
— Сдерживаю себя, что есть силы, только докуда — не знаю!
— Ступай! Ступай! Ступай уж! — гнала она его. А уходил, боялась о нем и помыслить.
Но ежели он все-таки вплетался ей в воспоминания или представал ее мысленному взору, она всегда пугалась, охала в страхе и старалась побыстрее выкинуть его из головы. Хотя чаще всего не справлялась с собою. Хотела или не хотела, а Юло Митрон терзал ее воображение. То она видела его печальный застывший взгляд или пылающие глаза, отчаянное лицо, то слышала жгучие слова: «Моя, моя, моя!» Тогда она стыдилась самое себя, испуганно ощупывала лицо, закрывала глаза и чинила себе всяческие укоры.
А тут еще напасть: повадилась ходить к ней грузная Матильда, ревнивая и злобная Митронова жена. Пришла как-то ненароком, не то потолковать малость, не то занять какую ерунду, да вдруг и брякнула, будто невинно и вроде бы равнодушно:
— А моего Юло тут не было?
— Был! — обрезала ее Кристина.
— А зачем приходил?
— Матея искал!
— Матея?
— И тебя!
— Меня?
— Ей-богу!
— А чего хотел-то? — все допытывалась Матильда.
— А я почем знаю?
— Не сказывал?
— Нет! — огрызнулась Кристина.
— Ну а вчера? — не унималась Матильда.
— Что вчера?
— Тоже приходил?
— Вчера?
— Ну, вчера!
— Не помню!
— Не было его дома вечером! — вздохнула Матильда.
— Мой-то Матей был.
— Правда?
— С вечера и до рассвета!
— А я-то думала, что оба были в корчме.
— Тебе разве твой ничего о том не сказывал?
— Только и знает что дуется на меня, тварь божия!
— Ох, уж эти мне мужики! — вздохнула Кристина.
— Як нему как лучше, а он ко мне все дурнее, — горько посетовала Матильда. — Мирволю ему — делай, что хочешь, подношу, что душе его угодно, кажись, последнее отдала бы, а он знай станет на веранде и пялится, пялится невесть куда, и ни словечка в ответ, а то, поди, и вовсе меня не слышит, или вдруг запропастится, и нету его весь день, весь вечер, всю ночь… Намедни ночью пошла за ним тишком, вся душа в страхе — не сбрендил ли или кабы чего не выкинул… Ведь эдак от злости недолго и деревню подпалить или кого покалечить, а он все ходит круг дома, там-сям постоит, снова пойдет и так до самого утра…