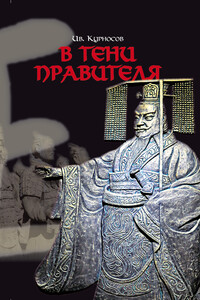— Могла ведь и спросить его, отчего он был такой неразговорчивый.
— Она его и спрашивала.
— А он?
— Не открылся! Улыбнулся только, а не открылся…
— Матей такой не будет. Он другой, знаю.
— Только ты в оба гляди, — отозвалась мать. — Когда тебя мужик больно балует и очень о тебе заботится, когда тебя уж слишком ласкает и возносит, это тоже плохой знак. Ты и в толк не возьмешь, что у него в голове, а он в голову точно что-то забрал. То ли деньги хочет от тебя утаить или полюбовницу, а то какую другую подлость прикрыть…
— Ну, мама! — рассмеялась Кристина. — Эдак я никогда замуж не вышла бы. Не оставаться же мне старой девой?!
— Сохрани бог! — вздохнула примирительно мать. — Только помнить надобно, что выбираешь один раз, а потому выбирать нужно с оглядкой. Потом жалеть поздно будет!
— Я-то уж точно не пожалею, мама! — сказала Кристина и зарылась горящим лицом в прохладную перину. Она жадно вдыхала ее аромат и вдруг тихо, тоненько всхлипнула, прижмурив глаза. Этот вздох, истомный и жалостный, поверг мать в слезы. Она протянула руку, погладила дочь по волосам и лишь озабоченно покивала седеющей головой. Больше она не сказала ни словечка.
В те дни часто заходила к Кристине погрустневшая Ганка Коларова.
— Не пишет? — спрашивала она о Валенте.
— Один раз отозвался, — поясняла Кристина, — тотчас, как уехал, но с той поры — ни словечка. Возни с учебой много, а денег мало. Знаешь ведь — за письмо платить надобно. Да он на рождество точно приедет, не волнуйся…
— Только на рождество? — ахнула Ганка. — Ведь до Кежмарка — рукой подать!
— На один день — расчета нет!
— А вот и есть!
— Школа — это школа, моя милая!
А пока Ганка терзалась, не забыл ли о ней в недалеком Кежмарке Валент Пиханда, озорница Гермина Гадерпанова зря времени не теряла. Написала Валенту письмо и тем совсем сбила его с толку. Сообщала, что в женской школе не могут нахвалиться ее знаниями немецкого, основы которого он преподал ей. Выражала надежду, что начатые занятия они будут продолжать и в предстоящие каникулы, а потом не постеснялась написать буквально так: «Наш любовный диалог по-немецки застрял на полпути. Надеюсь, Валент, что с твоей помощью научусь слово «любовь» склонять во всех падежах!» Этот Герминин вызов жег обе ладони Валента, в которых он по нескольку раз на дню держал ее письмо. С одной стороны, его злила дерзость Гермины, с другой — ее бесстыдство приятно щекотало нервы. «Сука, ну сука», — шипел он яростно. «А вот возьму и обесчещу ее», — решил он погодя. «Нет, нет, — возражал он самому себе, — к этому недоноску, к этой горбунье я никогда не притронусь!» В смятении, однако, он забывал о своих домашних, о Ганке и едва успевал учиться. Его неустанно терзал вопрос: написать ей или не написать?! «Нет, — давал он себе клятву, — не напишу и этим накажу ее». Но, наказывая Гермину, он не заметил, как начал любить ее.
После богоявленья прошумела не одна, а сразу четыре свадьбы. Корчмарь Арон Герш закрыл на неделю свой постоялый двор и с женою Рахелью, дочерью Мартой и остальными домочадцами отбыл в Жилину. Он отдавал замуж свою красавицу Марту за местного торговца Вайцика. А воротившись через неделю домой, поведал истосковавшимся по выпивке мужикам, как было дело в Жилине. Марта, говорил он, счастлива и потихоньку, хотя и не без охоты, свыкается с городской и супружеской жизнью. Ни плакать, ни смеяться, однако, ей некогда, потому как работа в Вайциковой мануфактурной лавке занимает ее с утра до вечера. Гибчане выслушали заботливого корчмаря, выпили даровое угощение и, похоже было, поверили Гершовым словам о дочернем счастье. Но молодой Йозеф Надер стал попивать. Он не злобился на корчмаря, не бранил его, лишь все дни до самого рождества просиживал в корчме и временами жалобно плакал. И скорей для себя, чем для других, то и дело выкрикивал: «Вот доберусь до Жилины, подпалю из конца в конец и Марту назад привезу!» Но поскольку он твердил это уже две недели, корчмарь Герш успокоился. Иной раз даже сжаливался над ним и безвозмездно угощал палинкой. А как-то раз Йозеф Надер схватил его крепко за руку, заглянул в глаза и шепнул на ухо: «Отец, ребенок, что у Марты под сердцем, от меня!» Корчмарь Герш подсел тогда к Йозефу и вместе с ним расплакался. С тех пор они стали друзьями. Без шума на глазах изумленных земляков прошла свадьба Юрая Гребена и Стазки Дроповой. К свадьбе готовились недолго — недели хватило. Стазка решила напечь домашнего хлеба. В пекарнице уже с лета сохли поленья. Она замесила тесто, вздула огонь. Через минутку из печи послышался неистовый визг, остервенелое мяуканье и завывание. Стазка отворила печь и сквозь пламя и дым с ужасом увидела, что позади огня корчатся четыре кошки, невесть когда туда пробравшиеся. Что тут поделаешь?! А суеверная Стазка ничего и не делала. Кошки сгорели, Стазка в натопленную печь посадила десять хлебов. Подрумянились они любо-дорого. Свадебникам хлеб пришелся по вкусу, хотя и была у него жирноватая корка. Сама же Стазка к хлебу и не притронулась. После свадьбы родители подарили ей большую кафельную печь. Шестеро мужиков взялись переносить ее от Дропов в Юраев дом. Несли печь на коврах, а Стазка вокруг них радостно подпрыгивала. На полпути, однако, печь развалилась, и Стазка залилась слезами. Тогда Юрай Гребен-Рыба впервые держал на людях долгую речь. Он привлек Стазку к себе и ласково сказал: «Не плачь, моя хорошая, я поставлю такую печь, что весь дом обогреет. Лежанка будет большая — пятеро детей на ней уместятся… А захочешь, и две лежанки смастерю, чтоб и нам двоим было где поваляться. Уж такая будет печь, что как на Мартина