Наша 16-я армия втянулась в тяжелые бои, которые с нарастающей силой шли на ее флангах, особенно на левом. Главной моей и моих подчиненных заботой в те дни было наиболее аффективно и целеустремленно организовать политическую работу в частях и подразделениях. Ведя об этом разговор, позволю себе еще раз остановиться на мысли, высказанной в предыдущей главе. Там я писал; то, что было приемлемо в мирных условиях, не всегда годилось в обстановке напряженных боевых действий. Действительно, когда день за днем рвутся бомбы и снаряды, когда поливает свинцовый дождь, проводить политико-воспитательную работу гораздо сложнее. Но это вовсе не значит, что мы отказались от нее. Нет, мы вели эту работу постоянно и в любых условиях. Иное дело, что потребовался поиск ее новых организационных ферм и методов.
Боевая обстановка заставила нас перенести политиковоспитательную деятельность непосредственно в окопы и блиндажи, в орудийные и минометные расчеты. Иными словами, мы стремились воспитывать каждого человека в отдельности. Поэтому работники отделов политпропаганды армии и соединений во главе с их начальниками, заместители командиров полков и батальонов но политической части, секретари партийных организаций и политруки рот — все, кто организовывал и вел идейное воспитание личного состава, шли в эти окопы и блиндажи, в орудийные и минометные расчеты поговорить с людьми с глазу на глаз и обязательно по душам. А это было очень и очень важно, ибо, чтобы выполнить свою задачу в бою, воин должен уметь переносить всевозможные трудности и лишения, оставаясь бодрым, мужественным и решительным, неуклонно стремиться к встрече с противником и уничтожению его.
На привитие таких морально-боевых качеств у личного состава мы и сосредоточивали свои усилия, причем не от случая к случаю, а постоянно. Не припомню дня, чтобы, к примеру, батальонные комиссары И. И. Панченко и С. И. Поскребышев, старший политрук А. И. Батманов и другие политработники не прошли по траншеям, не поинтересовались самочувствием бойцов, не выслушали их просьбы, пожелания, не поддержали морально. А в ту пору в поддержке нуждались многие. У одного погиб отец, у другого гитлеровцы сожгли хату, третий давно не получал писем от жены или, случалось, получал такое, что свет становился не мил.
Как-то Батманов рассказал мне:
— Заглянул сегодня утром на огневую позицию артиллеристов, в расчет Свиридова, и сразу почувствовал: что-то с сержантом неладно. Спрашиваю: кого-нибудь ранило, убило? Свиридов отвечает: нет. Тогда, говорю, что-то все-таки случилось? Достал сержант из кармана гимнастерки свернутый лист бумаги, расправил, показал в письме нужные строки и молча протянул его мне. А там написано: «Я полюбила его и вышла за пего замуж. Так что больше я не твоя».
— Горе? — продолжал Батманов. — Еще какое! Тут, чтобы помочь человеку, слова нужны особенные. Ну, как и Свиридов, я молчу, подбираю про себя эти слова. Потом осторожно говорю: «Семен Петрович, понимаю, в одночасье беду свою не забудешь, но все же подумай-ка, чего стоит женщина, изменившая именно в такое время?»
А потом постепенно перевел разговор на другую тему, сказал о заявлении Свиридова о приеме в партию, которое он вручил мне вчера и в котором сам же написал, что обязуется стойко преодолевать все трудности и препятствия. Говорю ему: «Ясно, ты имел в виду другие трудности, фронтовые, но ведь…» И знаете, товарищ бригадный комиссар, сержант не дал мне договорить, заверил: лишь бы коммунисты уважили его просьбу, приняли в свои ряды, а уж он их в бою не подведет…
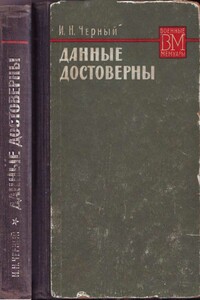


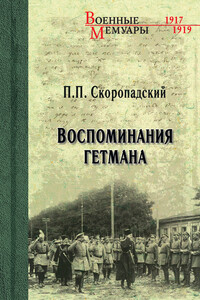

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)
