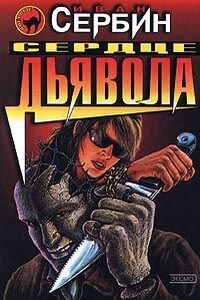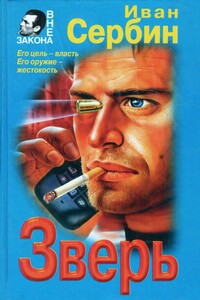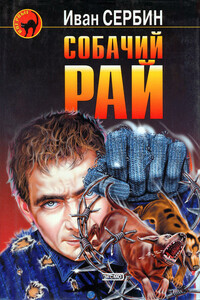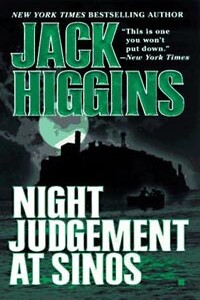— Ну? — Савинков хромо помялся с ноги на ногу. — Где «Даная»?
— А где голландцы? — ответил вопросом на вопрос Григорьев.
— Понимаешь… — отвел глаза Савинков. — С голландцами сложности.
— Мы же договорились. «Данаю» в обмен на голландцев.
— Ну, сложности, понимаешь? — Савинков ожесточенно почесал руку. — Экзема. На нервной почве. А у голландцев краска начала на краях осыпаться. Их вообще из комнаты лучше не выносить.
Врал. Алексей Алексеевич знал, что горбун врет. А горбун знал, что тот знает, но тем не менее врал. Отчаянно и вдохновенно.
— Извини. Видимо, я неправильно тебя понял в прошлый раз. — Алексей Алексеевич спокойно повернулся и пошел в прихожую.
— Погоди, — вцепился ему в рукав горбун и, прихрамывая, засеменил рядом, ноя на ходу: — Понимаешь, они влаги боятся. Голландцы. Мне за них Волков знаешь сколько предлагал? Но ведь угробил бы, зараза. А у меня тут климат специальный. Влажность нужная. Я, конечно, могу тебе их дать, но ведь… пропадут, а?
— Пропадут — оставишь себе «Данаю», как договаривались, — Григорьев перешел на сухой, деловой тон. — Ты знаешь, Рембрандт вдвое дороже твоих голландцев.
— А давай я «Данаю» куплю у тебя, а? — продолжал канючить горбун. — Не обратно же в музей ее теперь тащить? Хорошие лаве дам. Больше, чем на «Сотбисе».
— Ошибся я в тебе, Петя. — Алексей Алексеевич остановился, покачал осуждающе головой. — Предупреждали меня, что ты мастер левые базары разводить, да я-то тебя совсем с другой стороны знал… Надо было сразу к Волкову идти.
Волков был прямым конкурентом Савинкова, но конкурентом особым, собирающим не просто редкие полотна, а полотна экстра-класса. Голландские миниатюры XV–XVI веков в его собрании имелись.
— Ладно! — вдруг резко выкрикнул Петя. — Погоди. Так и быть. Бери голландцев. Бери! — Это был «фирменный» поворот всех его разговоров — сделать так, чтобы собеседник понял, что ему делают большое одолжение. Даже если он, собеседник, остается в проигрыше. — Только сперва надо на твою «Данаю» посмотреть. Вдруг ты мне «новодел» впарить пытаешься, — тут же добавил горбун.
— Петя… — Григорьев укоризненно наклонил голову. Весь его вид говорил о незаслуженно нанесенной обиде. — Ты за кого меня принимаешь?
— Посмотреть надо, — упрямо повторил Савинков.
— Смотри. — Григорьев достал из кейса сверток.
Горбун принял его с благоговейным трепетом.
— Пойдем в комнату, — прошептал Савинков.
Они вернулись в комнату. Здесь Петр Андреевич постелил на стол газету, сверху скатерть и полиэтилен, достал из свертка картину и очень бережно положил на газету. Раскрыл. На лице его отразилось восхищение.
Григорьев подумал, что, если на свете есть родители, относящиеся к своим собственным детям с той же любовью и трепетом, с каким Савинков относится к полотнам, то это самые лучшие родители. Заведи Петр Андреевич детей и встань перед ним дилемма: отдать на закланье собственного ребенка или одну из картин, можно не сомневаться, Савинков выбрал бы первое.
— Она… — прошептал горбун, нежно проводя ладонью по полотну.
Савинков обладал уникальной способностью в девяноста девяти случаях из ста после самого поверхностного осмотра верно определять, что перед ним — подлинник или отлично сработанный «новодел». Именно поэтому Григорьев и обратился к нему. Волков бы, конечно, потребовал привести эксперта. И лучше, если не одного. А там бы поползли слухи. Через неделю вся страна знала бы, у кого в данный момент находится украденный шедевр. Оперативники — не дураки, время зря терять не стали бы. Савинков же будет молчать как рыба. Хотя бы потому, что слишком любит картины.
— Точно, она, — повторил горбун, любуясь полотном.
— Как насчет голландцев? — напомнил Григорьев.
— Сейчас.
Савинков осторожно поднял «Данаю» и скрылся за дверью кабинета. Вернулся он через несколько минут, прижимая к груди три специальных футляра.
— Держи… — Горбун с явным сожалением наблюдал за тем, как Григорьев убирает футляры в пакеты. — Когда вернешь, говоришь? — морщась, словно от зубной боли, уточнил он.
— Через десять дней, — ответил Алексей Алексеевич. — Может быть, раньше. Смотря как дело пойдет.