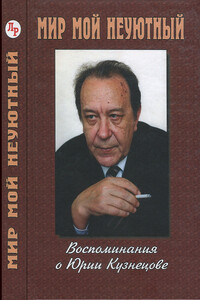Троцкий видел лишь начало этой великой цепи событий. Он не понимал, что они предвещают. Весь его склад мышления затруднял ему, если не лишал целиком возможности вообразить, что целую эпоху армии и дипломатия трех держав смогут навязывать свою волю всем общественным классам старой Европы и что отсюда классовая борьба, подавленная на том уровне, на котором она традиционно велась, будет вестись на другом уровне и в других формах, таких как соперничество между блоками держав и как «холодная война».
Исходя из теоретического убеждения и политического инстинкта, Троцкий не испытывал ничего, кроме отвращения, к революции путем завоеваний. Он возражал против вторжения в Польшу и Грузию в 1920–1921 годах, когда Ленин выступал в поддержку этих рискованных начинаний. Как народный комиссар по военным и морским делам, он категорически не признавал Тухачевского, этого раннего истолкователя наполеоновских методов переноса революций в другие страны. За двадцать лет до Второй мировой войны он подверг осуждению этого вооруженного миссионера большевизма, заявив, что «он бы лучше повесил себе на шею придорожный камень и бросился в море». Его отношение в 1940 году было таким же, что и в 1920-м. Он все еще видел в экспорте революции самое опасное отклонение от революционного пути. Он все еще был уверен, что рабочие Запада своими собственными обстоятельствами будут вынуждены бороться за власть и за социализм и что со стороны советского правительства будет столь же преступно стараться делать для них революцию, как и действовать против их революционных интересов. Он все еще видел мир, чреватый социализмом; все еще верил, что эта чреватость не может длиться долго; и он боялся, что вмешательство в нее может привести к «аборту». Он не так уж был не прав: сталинское вооруженное вмешательство в революцию привело к рождению многих мертвых плодов — и многих живых чудовищ.
И вот, столкнувшись лицом к лицу с революцией, переносимой на штыках, Троцкий вновь оказался в серьезном затруднении. Он был за революцию и против завоеваний; но, когда революция вела к завоеванию или когда завоевание способствовало революции, он не мог в своем сопротивлении ей переступить грань открытого и бесповоротного разрыва. Он не доходил до этой точки по поводу Грузии и Польши в 1920–1921-м и также не сделал этого в связи с Польшей и Финляндией в 1939–1940 годах. Если бы он дожил и увидел последствия Второй мировой войны, он бы заметил, что эта дилемма осложнилась, стала гигантской и нерешаемой. Несомненно, что он осудил бы Сталина за жертву интересами коммунизма на Западе и что логика его поведения вынудила бы его принять реалии революции в Восточной Европе и, несмотря на все отвращение к сталинским методам, признать «народные демократии» государствами трудящихся масс. Такое отношение, каковы бы ни были его заслуги и чистота, не могли дать путеводной нити для практических политических действий; а поэтому Троцкий, человек практического действия, вряд ли нашел бы для себя какую-то полезную роль в послевоенной драме. В этом цикле революции не было места для классического марксизма.
Однако этот цикл, как и предыдущий, закончится не так, как начинался. Его кульминацией станет китайская революция, которая не была навязана сверху и не была принесена на кончиках иностранных штыков. Мао Цзэдун и его партия боролись за власть, невзирая на Сталина (который в 1945–1948-м, как и в 1925–1926 годах, стремился к сделке с гоминьданом и Чан Кайши); и, захватив власть, они не остановились на «буржуазно-демократических» стадиях восстания, а, подчиняясь логике «перманентной революции», довели ее до антибуржуазного конца. Этот «китайский Октябрь» стал, в некотором роде, еще одним из посмертных триумфов Троцкого.
И вот опять «теория суха, а древо жизни — вечно зеленеет». Промышленный пролетариат не был ведущей силой китайского восстания. Крестьянские армии Мао сами «заменили» городских рабочих и несли революцию из села в город. Троцкий был убежден, что, если бы эти армии надолго ограничились сельскими районами, они бы так ассимилировались с крестьянством в отношении отстаивания их личностных интересов против городских рабочих и против социализма, что стали бы главной поддержкой новой реакции. (Разве мятежные крестьянские армии в прошлом не восставали и не свергали упрочившиеся династии лишь для того, чтобы заменить их новыми династиями?) Этот анализ был справедлив в терминах классического марксизма, который предполагает, что партия социалистической революции нуждается не только в «представительстве» городских рабочих, но обязательно должна жить с ними и действовать через них — в противном случае она станет социально смещенной и будет выражать интересы чуждого класса. И действительно, может случиться так, что, если бы эта революция зависела исключительно от социальной расстановки сил в Китае, партизаны Мао стали бы в Юнаньский период так близко связаны с крестьянством, что, несмотря на их коммунистическое происхождение, не смогли бы навести мосты между «жакерией» и пролетарской революцией. Но результат этой борьбы даже в Китае определился как международными, так и национальными факторами. В разгар «холодной войны» перед лицом враждебной американской интервенции партия Мао гарантировала свое правление, присоединившись к Советскому Союзу и, соответственно, трансформировав общественную структуру Китая. Таким образом, революционная гегемония Советского Союза достигла (несмотря на первоначальную обструкцию Сталиным) того, что в противном случае могли достичь только китайские рабочие, — она подтолкнула китайскую революцию в антибуржуазном и социалистическом направлении. При китайском пролетариате, почти рассеянном и отсутствующем на политической сцене, гравитационное притяжение Советского Союза превратило крестьянские армии Мао в проводников коллективизма.