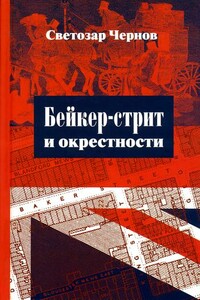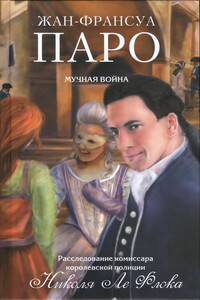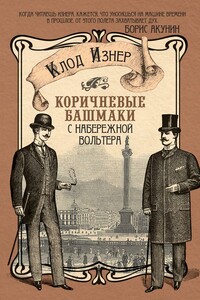Фаберовский с Артемием Ивановичем выбрались из санок и спустились на лед, ведя лошадь в поводу. Здесь поляк зажег фонарь и пошел в трех шагах впереди саней, высматривая колею.
– Иго-го, залетные! – кричал то и дело Артемий Иванович, чтобы какой другой извозчик на него в темноте не наехал. Еще час они потратили на то, чтобы добрести до Ириновского вокзала на правом берегу и взобраться наверх. На углу с Большой Охтинской дорогой они подобрали какого-то мальчугана с Охтинской мануфактуры, который вызывался проводить их до Сретенской церкви.
– А вы что, тоже на собрание к отцу Серафиму? – спросил мальчишка, кутаясь в отцовский зипун. – Так они там уже давно все, меня вот в «Акрополь» за водкой послали.
– Мы тоже, – сказал Фаберовский. – Давай, извозчик, шевели море палкой!
– Погоняй, погоняй! – поддакнул мальчишка и больно ткнул Артемия Ивановича в спину горлышком бутылки.
– Много ли народу сегодня у отца Серафима собралось? – спросил поляк.
– Да почитай все наши, и охвицер с городу учить приехамши. Вот здесь стойте, я слезу. Мне к мамке надо, а вам вон к церкви, где факела горят, и на двор.
В конце улицы, на которой они остановились, действительно рдели в тумане несколько факелов. Артемий Иванович подъехал поближе. Воткнутые в снег на высоких шестах факелы освещали ворота во двор, надпись на которых гласила: «Церковный дом Сретенской церкви». За высоким забором по всему периметру двора тоже горели факелы, освещавшие, судя по доносившимся крикам, какое-то странное действо.
– Это царь! – кричал подозрительно знакомый голос. – Нападай, бей царя! Теперь вы вступаете. Набегай! Налетай! Охаживай кольем-то! Вдарил, отошел – дай другому. Так! Молодец!
– Господи Иисусе! – сказал Артемий Иванович и перекрестился. – Чему они такому там учатся!
– Я подойду поближе, попробую в щелку поглядеть, – сказал Фаберовский и полез через сугроб к забору.
Он приник к щели между досками и увидел несколько человек, мочаливших кистенями и залитыми свинцом палками набитое соломой чучело. Где-то близко за забором мужской голос говорил:
– Если все получится, матушка, переведут меня в Свято-Владимирский собор, и будет там уже не «Бавария», а спиртовой завод.
– Все, отец Серафим, – раздался все тот же знакомый командный голос. – На сегодня хватит. Поехали в участок насчет полушубков для дружины, там уже братец дожидается, я его предупредил.
– Ну, матушка, я поехал, – сказал священник. – Когда вернусь – не знаю, Иван Александрович хозяин хлебосольный. Гришка, выводи сани!
Фаберовский бросился от забора обратно к лошади.
– Цепляй бороду, – шепнул он и плюхнулся сзади в санки. Выдернув из мешка в ногах капор с вуалью, он напялил его на голову, наскоро повязал сверху платок и набросил на плечи шаль.
Церковные ворота со скрипом распахнулись, поляк едва успел полулечь в санях и запахнуть полость, чтобы скрыть мужскую шубу и отсутствие юбки. Из ворот выехали роскошные сани с настоящим кучером на козлах и устремились в темноту. Рядом с кучером сидел дьякон Верзилов, а сзади, оживленно беседуя, сидели капитан Сеньчуков и Свиноредский.
– Ваш атаман-то малый не дурак, ваше преподобие, – говорил Сеньчуков. – Я бы сам такую штуку не выдумал.
– Не дурак-то не дурак, да только все равно боязно и непонятно, – отвечал ему Свиноредский. – И брат ваш будет недоволен. Это ж ему надо объяснять, почему вдруг у него в участке столько Иванов-не-помнящих-родства разом объявилось, что он по несколько человек каждый день в пересыльную тюрьму присылает!
Когда сани Свиноредского растворились в морозном тумане, Артемий Иванович тронул поводья, и они поехали следом. Фаберовский взвел курок револьвера и засунул руку с оружием в муфту.
– Как-нибудь объяснит, – доносился спереди голос капитана. – Зато какой барыш, какая экономия! Вы только представьте! У нас с вами сотня ткачей. Если покупать каждому полушубок, мы потратим на каждый, скажем рублей восемнадцать, итого тысячу восемьсот! Столько нам Их Высочество и выделит. Беспаспортным же, высылаемым в Шлиссельбургский уезд, полагается полушубок и обувь бесплатно! Ткачи наши за казенный счет туда сходят да быстренько обратно. И будет у нас и дружинники обуты-одеты, и в карманах по восьмиста рублей.