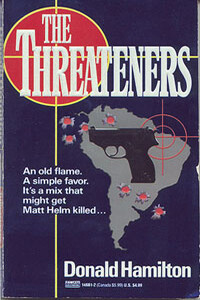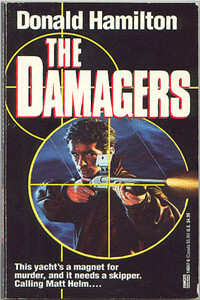— Здоровье за деньги не купишь.
— Зато поправить всегда можно. Если Зайцев, конечно, способен, извини за прямоту, стать отцом.
— Не волнуйся, папа, на это он способен. Он мнителен, даже специально проверялся. А то, что я ни разу не попала к его сестренке, — это он меня бережет.
— Значит, любит! — отец снова взмахнул рукой и окончательно успокоился. — Значит, попсихует и вернется. И ты кончай ему перечить. Ты сама должна сделать первый шаг навстречу.
— А как же моя гордость? Он же мне пощечину закатил!
— Не будь дурой, не выкобенивайся, вот и не будет пощечин. Ее, можно сказать, на руках носят, а ей, видите ли, надоело. Ей скучно! А что тебе весело? Восемьдесят рублей зарабатывать? Тогда надо было институт заканчивать, пока у меня связи были, а не медицинское училище. Тогда бы ты еще могла на что-то претендовать. А ты ленивая.
— Зато красивая.
— Красота твоя, как снег весной, все равно исчезнет. И запомни, в холодильник ты ее не спрячешь. А голову надо иметь. Давай-ка мне еще кофейку с коньячком, да буду собираться домой. Знала бы ты, Настенька, как тяжко мне одному в четырех стенах. Мне же столько партий предлагали после того, как Маруся умерла. А я ради тебя, ради дочери своей, остался один. И ты не хочешь, чтобы твой отец при жизни понянчил внуков? Эх ты, бессердечная женщина! — Отец всхлипнул.
Настенька поморщилась, подошла к нему, сидящему в глубоком мягком кресле, погладила, как маленького, по седой голове:
— Ладно тебе, папуля, расстраиваться. Вот увидишь, я скоро перебешусь и пойму, что я такая же обычная баба, как та стерва, которая приходит к Зайцеву и на которую он смотрит своими сладкими глазенками. Наверно, ты прав, мне надо рожать.
— На кого он смотрит? — встрепенулся Лев Станиславович.
— Да там одна приходит, я ей зубы до зеркального блеска чищу, аж тошнит. Кольца она ему, что ли, таскает? Ей лет сорок, а все туда же: хвостом вертит, а глаза как у дуры намалеваны. Первый раз пришла, так я на нее и не посмотрела, потому что глядеть было не на что: обыкновенная замухрышка. А теперь расфуфырилась, ну, прямо как индюшка. И не понимает, дура, что все эти серьги и дубленки ей как корове седло.
— А может, у нее с Зайцевым шуры-муры?
— Что? Да у тебя температура, что ли, папочка? — Настенька нервно засмеялась, но где-то далеко внутри у нее шевельнулось сомнение, и она, резко оборвав отца: «Хватит городить чепуху!», пошла на кухню варить ему кофе.
Однако в последний раз, когда та женщина снова пришла и уже не как прежде — скромно, — а прямо-таки нагло посмотрела Настеньке в глаза своими сливовыми глазищами и сказала, что ей срочно нужен Евгений Александрович, Настенька едва не упала духом. А вдруг отец оказался прав?
Она трудно мирилась с мыслью, что у Зайцева когда-то, до нее, были женщины, ведь он был женат и несчастлив в первом браке. Но чтобы теперь, после того, как она подарила ему себя, чтобы после того, как она отказала стольким красавцам, претендовавшим на ее руку и сердце, и предпочла им всем Зайцева, который оказался действительно немыслимо щедрым и оплачивал все ее капризы, — чтобы после этого он затеял роман с какой-то работягой с машиностроительного завода? Нет, этого Настенька не могла даже представить!
Утром муж подъехал к поликлинике на голубых «Жигулях». Настенька, радостно поздоровавшись с ним, посмотрела в окно и спросила ровным голосом, почти равнодушно:
— А где красная машина?
— К-кардан полетел, — ответил Евгений Александрович, — пришлось отбуксировать н-на станцию техобслуживания.
«Записал бы их на мое имя, не полетел бы кардан этот», — со злорадством подумала Настенька, а вслух сказала:
— Жалко. Только что купили. Да, Евгений Александрович, вас в профком приглашали, какое-то заседание насчет жилья.
Зайцев ушел, а Настенька пригласила очередного пациента — худенького мальчика лет пятнадцати с левосторонним флюсом.
— Ну что, наелся конфет?
— Я больше не буду, — жалобно промычал мальчишка. Опухоль уже начала спадать. Настенька аккуратно надрезала десну, удалила гной, промыла полость рта. Мальчишка мужественно мычал, слезил, но не дергался.