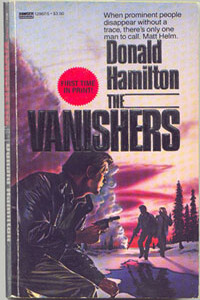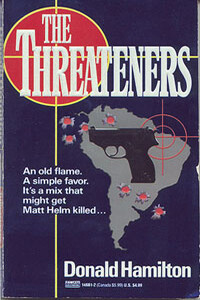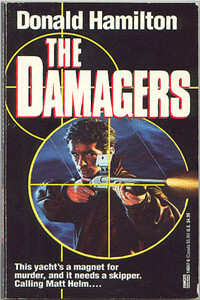— Ты, мама, раньше из колхоза приезжала такая разбитая, а теперь вернулась словно с курорта. Что это с тобой?
— Со мной? — Кудрявцева улыбнулась, и глаза ее счастливо заблестели. — Ничего особенного. Просто влюбилась.
— Ты? — обомлела Вера и вдруг рассмеялась так звонко и весело и этим смехом так больно ударила Елену Петровну в самое сердце, что она сникла, глаза потухли, руки опустились, и маленькая фарфоровая чашка, которую она мыла над раковиной, упала в нее и разбилась.
— Ох, Вера, ну что ты своим смехом наделала? Последнюю красивую чашку разбила из-за тебя.
— К счастью, мамочка, к счастью посуда бьется. Примета такая. — Вера распахнула халат и дала Максиму грудь. — Ну, сыночек, маленький, ты что, испугался?
Кудрявцева собрала осколки, выбросила в ведро и присела к окну на то самое место, где всего две недели назад в половине двенадцатого ночи она ждала машину еще совсем чужого, неизвестного ей Василия Митрофановича Серегина.
Так пролетел почти год. И Кудрявцева, завертевшись на работе и дома, уже перестала ждать и звонка, и письма, и даже нечаянной встречи на улице. В памяти сохранился только золотой сентябрь, единственный счастливый месяц в ее жизни. Когда в цехе повесили объявление о предстоящей уборке в подшефном колхозе, Елена Петровна пошла в профком и отказалась. Ей не хотелось возвращаться туда, где она нашла и спрятала далеко в сердце свое короткое счастье.
И вдруг два месяца назад, тогда она возвращалась с рынка с тяжелыми сумками в руках, ее обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Елена Петровна, занятая своими мыслями, замерла от испуга, подняла глаза и ахнула: за рулем «Жигулей» сидел Серегин. Сетки вдруг стали невесомыми, и она, стоя перед машиной, поднимала и опускала их: вот, мол, иду с базара. День был будничный. Елена Петровна работала в ночь, в третью смену, зять был где-то в районе на своем «пирожке», а продукты в будний день на рынке стоили дешевле.
Серегин открыл ей переднюю дверцу, и она, мысленно ругая себя за то, что накупила столько всего, что даже в машину не сядешь, с трудом забралась на сиденье, стыдливо одернула юбку. Серегин перехватил у нее сетки и положил их назад.
— Здравствуй, поилица-кормилица! — улыбнулся он, помогая ей застегнуть ремень безопасности. — В какую смену работаешь?
— В третью, с ноля, а что? — едва перевела дух Елена Петровна и на всякий случай оглянулась: нет ли поблизости знакомых? Кажется, нет.
— Поехали ко мне домой, — Серегин включил скорость, и за окном замелькали люди, деревья, дома.
— Но ведь у тебя… — хотела сказать она, а он перебил ее:
— Не волнуйся, жена до двенадцати ночи будет на работе, а ребята в училище. Ты меня еще помнишь? Еще не забыла?
— Нашел о чем спрашивать! — Она засмеялась. — Я даже в колхоз отказалась в этом году ехать, потому что тебя там не будет. А что мне в колхозе без тебя делать?
— Разве других мало? — Серегин усмехнулся.
— Дурачок, не говори так, — моментально обиделась Кудрявцева и прижалась лбом к его плечу. — Я ведь ждала тебя. Каждый день, каждую ночь.
— А сегодня как?
— И сегодня. Всегда. Мне только чуточку страшно, что мы к тебе едем, да еще днем.
— Ничего, я окно закрою шторами. И забор у меня высокий, метр семьдесят. — Правой рукой он поправил ремень безопасности и коснулся ее груди. Елена Петровна вздрогнула, побледнела и прикусила губу. — Неужели ждала? — искренне удивился Серегин. — Это ж надо! Ну, молодец! Хвалю, Елена Петровна. Тогда полный вперед. А как у тебя на работе? Без изменений?
— А-а, — отмахнулась она, — и не спрашивай! Из бригадиров я ушла, надоело за каждого отвечать, опытных рабочих не хватает, вкалываем мы, ветераны.
— И все там же?
— Конечно. Меня все уговаривали оставаться в бригадирах, я ж самая опытная. А мне надоело нервы трепать. Так спокойнее.
— Это хорошо. Послушай, Лена… — Серегин въехал во двор своего дома, закрыл ворота, цыкнул на Тарзана, зарычавшего на чужую женщину. — У меня вот тут, — он порылся в кармане, — колечко есть. Так, ерунда, медное. Я вообще-то обручальное не покупал. Нищий был тогда, сама понимаешь. Ты у себя на заводе сможешь его позолотить? Чтобы мне на память, а?