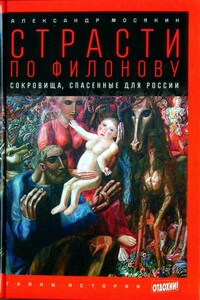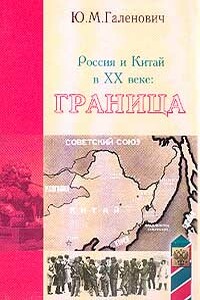Клинтон, привыкший к такой манере Ельцина, молча слушал его. Но как только представился случай, он попытался перевести разговор на другую тему: куда идет Россия Путина? Ельцин, однако, не собирался уступать инициативу. "Я сидел на диване напротив собеседников, поглощенный их разговором, - пишет Тэлбот. - Рядом со мной сидела Татьяна (Дьяченко. - А.М.), которую я за все свои бессчетные поездки в Москву видел мельком лишь однажды. Когда Ельцин завел самодовольную речь о том, как он привел Путина из безвестности к президентству, несмотря на отчаянное сопротивление, Татьяна взглянула на меня и важно кивнула. Она наклонилась ко мне и прошептала: "Это было действительно очень трудно - продвинуть Путина на пост. Это была одна из самых трудных задач, которую мы когда-либо решали".
Достойно пера Шекспира
Выйдя из-за стола и окончив политический диспут, друзья вновь разместились в гостиной и тут, на прощание, Клинтон выдал Ельцину монолог, достойный пера Шекспира. "Борис, - сказал Билл, - демократия была у тебя в сердце. Вера народа была у тебя в костях. Пламя настоящего демократа, настоящего реформатора пылало в груди твоей, во всем существе твоем. Ты на самом деле изменил страну, Борис. Не всякий лидер мог бы сказать это о стране, которую дано было ему вести. Ты изменил Россию. Россия была счастлива иметь тебя. Это была удача всего мира. Это была моя личная удача - быть с тобой. Мы много сделали сообща - ты и я. Бывали трудные времена. Но мы шли, мы противостояли разладу и хаосу, мы сделали кое-что хорошее. Это останется. Многое тебе доставалось труднее, чем мне. Я это знаю". "Во время этого монолога, - пишет Тэлбот, - Ельцин хватал гостя за руку, крепко сжимал ее, склонялся к нему всем корпусом и благодарил его: "Спасибо, Билл. Я понимаю".
Если бы это написал не Тэлбот - свидетель того разговора, фиксировавший в блокноте каждую фразу, трудно поверить, что такие дифирамбы один взрослый мужчина может петь другому взрослому мужчине. А если учесть, что Клинтон сказал все это после довольно жесткого начала их разговора, которое спровоцировал звонок Путина, то это удивляет вдвойне. Но это, полагаю, пролиает свет истины на отношения этих людей и суть клинтоновской натуры.
Великий актер
Ельцин искренне считал Клинтона своим другом. Клинтон же видел в Ельцине "кандидата для трудной любви". И хотя, очевидно, со временем Клинтон проникся симпатией к Ельцину, их отношения никогда не отличались той взаимной степенью искренности, как отношения Ельцина и Гельмута Коля. Для Клинтона это была работа - театральная роль на мировой политической сцене, которую ему волей-неволей пришлось исполнять. И он ее мастерски исполнял.
Каждая встреча Клинтона с Ельциным была драматургически выверенным спектаклем, фабулу которого очень точно отразил шарж в газете New York Times, где художник изобразил большого русского медведя, у которого на спине, поглаживая его, покоится рука президента Клинтона. У медведя отнюдь не добродушный вид - он напряжен, шерсть вздыблена, глаз скошен в ожидании то ли подвоха, то ли иной неожиданности. А поглаживающий его Клинтон как бы говорит: "Ты, Мишка, хороший. Не надо кусаться".
Театральную натуру 42-го президента США уловил Строб Тэлбот, который считал себя экспертом по русским делам, а в конце президентства Клинтона вдруг понял, что это не он, а его давний друг и есть настоящий эксперт по Ельцину и России. Отсюда название его книги "Специалист по России" (в подстрочном переводе The Russia hand - "рука России"), которое Тэлбот относит к Клинтону.
Ричард Никсон, который не раз выступал в роли провидца, в самом начале клинтоновского правления сказал: "О Клинтоне будут судить не по тому, что он сделал или чего он не сделал в Америке, а по тому, как он решал задачу с Россией". И Билл Клинтон ее в интересах Америки успешно решал - от первого звонка пьяному Ельцину в Кремль и до их последней встречи в Барвихе. Ведь главным в ней были не дружеские объятия и не пропетый Ельцину дифирамб, а разговор о Владимире Путине, в котором Клинтон постарался перетянуть Ельцина на свою сторону в своем заочном поединке с новым президентом России. Это было чем-то вроде политического наказа друга Билла другу Борису.