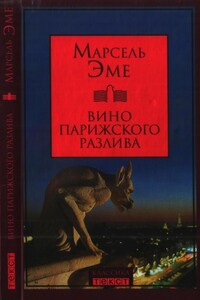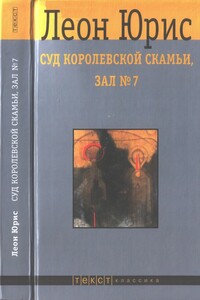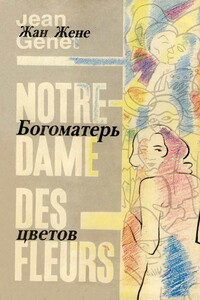Торжество похорон - страница 50
«Вот все, что я могу: поставить ось (это я) и вокруг нее завертеть самые редкие украшения мира, чтобы уже ничему не завидовать. С роскошью и деньгами я стану свободным». Ему требовалось осуществиться самым легким способом. Лицезреть себя хоть один день в таком законченном виде — и достаточно. Существует книга под заглавием: «У меня будут красивые похороны». Мы и производим в конечном счете красивые похороны, торжественную тризну. Все это должно быть шедевром в точном значении этого слова, главным произведением, справедливо увенчивающим всю нашу жизнь. Умирать надо в апофеозе, и мне все равно, отведаю ли я славы до или после смерти, если я уверен, что она придет, а она придет, если я заключу договор с похоронным бюро, которое возьмет на себя труд осуществить мой замысел, закончить его.
— Идит, майн Рит-тон.
Может быть, он намеренно приглушил голос, но сказано это было так нежно, что душу Ритона захлестнула волна отвращения. Его насильно вырывали из тисков его спесивого одиночества. Конечно, он знал, что ему никогда не будет дано его выдержать, но лишь бы ему позволили насладиться этим столь прекрасным мгновением, которое он, казалось, давно для себя подготавливал, очень давно. Пусть бы ему дали остаться наедине с этим мигом, в положении, достойном его, которое продлится до самого рассвета.
Но со скоростью падающего камня его возвратили туда, где он — отступающий солдат, уже уставший бежать. Он сказал по-французски:
— Да-да. Иду.
Но не двинулся с места. Еще капелька горечи добавилась к его отвращению. В то время как он столь ловко пытался возгордиться тем, что с легким сердцем позволяет всему французскому народу его возненавидеть, в тайниках души он уповал на некое средство оправдаться, на угрозу, насилие со стороны немцев, ибо нельзя так легко, как утверждают, освободиться от страны, что к вам прилепилась, цепляется вам за руки, за ноги, опутывает их вязкими канатами, разорвать которые невозможно. Угрозы и пинки помогли бы Ритону отклеиться. Вместо того чтобы ухватить его крепкой пятерней, этот немец, его товарищ по оружию, говорит с ним таким тоном, каким обращаются к умирающему. В конце концов Ритон имел право рассчитывать на отвращение бошей к французу, перешедшему в лагерь противника. Эта брезгливость, усиливая его одиночество, сделала бы его более крепким, стойким, способным выдержать все. Уже с первого дня боев у него пропала надежда выкрутиться. Может, еще несколько пробежек с крыши на крышу, несколько очередей из автомата, но шанса выйти из переделки не оставалось, поскольку сержант и его люди отказывались сдаться. А если он сдастся сам, его расстреляют. В любом случае, ежели отбросить в сторону чудеса, времени оставалось маловато. Целая жизнь оказалась бы слишком длинной, если бы он рискнул принять ее вместе с беспросветным презрением, но пусть, по меньшей мере, никто не умаляет его жертвы, навязывая эти смехотворные нежности.