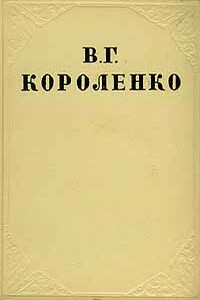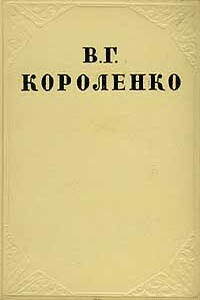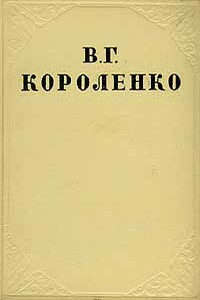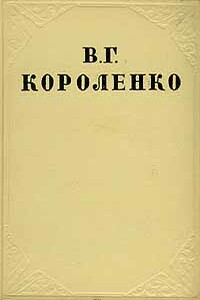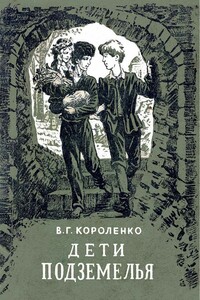Итак, Гончаров говорит «молодому поколению»: Что вы, бог с вами! Ведь я это не о вас. Я о тех грубиянах, которых исключают со службы, которых ссылают. А разве вас исключают, разве вас ссылают, вас, помогающих правительству в его благих начинаниях, вас, отлично проходящих разного вида благонадежные поприща? И как бы для того, чтобы не оставить сомнения, кого именно он разумеет под Марком Волоховым, он прибавляет в выноске:
«К несчастию, все это (т. е. массовое появление Волоховых) оказалось возможным и у нас, как это подтвердилось с тех пор, т. е. с 1875 года, когда были написаны эти строки».
С начала 1870-х годов, как всем известно, молодежь была охвачена стремленьем «в народ», т. е. массовой попыткой перерешить все вопросы «бабушкиного благоустройства» с новой точки зрения, которую она считала точкой зрения самого народа…
И Гончаров наивно полагал, что, хваля умеренных Тушиных и благонравных Викентьевых, обзывая Волоховыми все, охваченное молодыми утопиями ихронически-русским протестантством, — он делает шаг к примиренью с «молодым поколением.»… Или хотя бы с теми, кто представлял «молодое поколение» в его время, а теперь (т. е. когда он писал «Лучше поздно») уже остепенился и благополучно слился с бытовым строем «пореформенной России».
Казалось бы, почему бы и нет? Почему бы, по крайней мере, масса общества не могла простить Гончарову его Волохова, во имя его признания реформ, которыми само оно, по-видимому, удовлетворилось, которые, — как можно было бы думать, — приняло и признало? Когда-нибудь историк, быть может, остановится в недоумении перед этим фактом, но теперь мы еще понимаем его. Характерная черта нескольких пореформенных десятилетий состоит в резкой неудовлетворенности: молодежь в ряде сменявших друг друга поколений была охвачена резко антиправительственным настроением, выразившимся в непрерывных студенческих беспорядках и движении к народу, в отказе от привилегий и традиций… Среднее образованное общество сочувствовало молодежи, а не правительству.
Как бы ни относиться к этому явлению, — одобрять или порицать его, объяснять неопределенностью классовой структуры или незаконченностью великих реформ, или чем-нибудь другим, — но факт общеизвестен: русское общество второй половины XIX века было настроено сплошь оппозиционно. У него не было своей прочной идеологии, которую оно могло бы противопоставить утопической идеологии своей молодежи. На основании своего житейского опыта «отцы» отрицали утопические построения, но в области общественной этики они конфузились и отступали перед детьми.
Еще одно воспоминание из времен моей молодости. Комиссия по исследованию важного политического преступления допрашивает в Москве юношу-студента, арестованного по этому делу. Молодой человек среди показаний жалуется, что его держат в очень нездоровом помещении…
— Это в какой части? — спрашивает один из членов комиссии, товарищ прокурора.
— В Басманной, — отвечает молодой человек.
Лицо товарища прокурора оживляется.
— А в какой камере?
— В двенадцатой.
Глаза у солидного чиновника зажигаются молодым огнем.
— Представьте, — говорит он живо, — столько-то лет тому назад я сидел в той же камере…
Теперь, может быть, это было бы уже не так, но тогда, в конце семидесятых годов, допросы еще прерывались такими разговорами, и к воспоминаниям товарища прокурора еще два или три члена важной комиссии присоединяли и свои воспоминания того же рода… И хотя эта минута поэтических воспоминаний должна была смениться прозаическим продолжением допроса, но все же между юношей, беспечно отвечавшим на следственные пункты, и следователями протянулись какие-то нити взаимной симпатии. То, что для него было довольно горестным настоящим, для них являлось поэзией молодости. И можно сказать, что для целого ряда поколений русской интеллигенции самые яркие воспоминания юности связываются непременно с мотивами этого рода: обыск, арест, ссылка… Молодые мечты о переустройстве общества и… каземат.
Западноевропейский юноша мечтает о том времени, когда он будет прокурором, фабрикантом, купцом. Русский прокурор посылает меланхолический сочувственный вздох тому времени, когда сам он сидел в каземате… Не оттого ли это, что мечты западноевропейского юноши скромнее, но жизнь все-таки дает простор хотя бы скромной борьбе за идеалы. У нас же она беспощадно расправляется со всякой идеологией, требуя бесповоротного и неприкрытого компромисса. Повторяется адуевская трагедия («Обыкновенная история») в гораздо более драматической форме, и сотни тысяч людей, под давлением грубой необходимости, мирятся с действительностью фактически, но принимают ее без энтузиазма и уважения. Они только тянут безрадостную лямку, то и дело кидая взгляды назад, к своей юности, с ее безумными утопиями и поэзией борьбы в единственной форме, какую допускала действительность «пореформенной России». И вот почему русское общество так долго не прощало художнику посягательства на «молодое поколение». Не на то или другое поколение молодежи, — их ведь прошло уже так много, с такими различными настроениями, — а на молодежь вообще, на самую молодость с ее «неразумными утопиями», ее непримиримостью и содроганьем перед компромиссами. Это ведь долго был единственный островок живого русского идеализма…