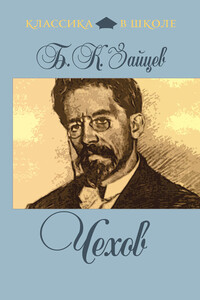Однако, эта сосредоточенность мысли и чувства не мешает художнику оставаться, как всегда, объективным и вполне владеть своим материалом – всеми образами, картинами-сценами и той атмосферой, тем своеобразным «воздухом», который все это пронизывает и окружает. Не всякому доступная, эта атмосфера вызывает у писателя известную душевно-духовную настроенность, которая сказывается в особой тональности его стиля, языка. Это именно тональность, ибо, как мне кажется, этой настроенности и всех связанных с нею чувств никакими словами и метафорами не передать…
Проверить мои впечатления на цитатах – трудно. Проще «взять Зайцева» и углубиться в чтение, и тогда читающий, – вероятно, не всякий, – эту зайцевскую тональность «услышит», а за нею почувствует и его настроенность. И вот тут-то он увидит, что Г. Адамович прав: тональность книги, действительно, заразительна. Однако заразительность эта благотворна: она, то что говорят, очищает. Видимо, и Юлий Айхенвальд испытывал те же впечатления, когда говорил, что зайцевскому творчеству присущ «аристотельский катарсис»[80].
Надо еще добавить, что и у самого писателя эта его настроенность утончает восприятия и все более просветляет взгляд на жизнь, на людей. После «Валаама» она проступает особенно явственно, – все в той же тональности, – в тетралогии «Путешествие Глеба» (1937–1953), в новелле «Царь Давид» (1945), в книге о Чехове (1954). Особенно сильно ее проявление в очерках «Звезда над Булонью» (1958), и уже, действительно, светит она каким-то невидимо-немеркнущим светом в последнем рассказе – «Река времен» (1964).
Но при всей этой настроенности, – я еще раз это подчеркиваю, – Б. Зайцев по-прежнему объективен и ничто не мешает ему, когда надо и можно, весело улыбаться, добродушно посмеиваться, оживляя свои зарисовки искорками смеха. В данном случае, – я понимаю, – слово «юмор», да еще в сочетании с «умилением», многих могло бы смутить, а некоторых даже и покоробить, может быть – оскорбить. Поэтому, думаю, был так осторожен и Мих. Цетлин. Откликаясь на роман «Дом в Пасси», он улавливает эти же «искорки» в фигуре отца Мельхиседека и тут же, вполне справедливо, оговаривается, что они «без остатка поглощаются благоговением»[81].
* * *
В 1930 году, говоря в своих «Комментариях» о Борисе Зайцеве, Г. Адамович увидел в его сочинениях тему «возвращения», тему, скажем, того же лермонтовского «Ангела», присущую, как считает критик, всей русской литературе от Пушкина до Блока[82]. После же появления «Валаама», уже в 1937 году, может быть еще лучше сказал о зайцевском творчестве Юрий Мандельштам. Он почувствовал, что для Б. Зайцева в жизни существенно лишь то, что отражает «некое таинственное странствие человеческой души в мире»[83].
И вот на последнем этапе жизни писателя, когда связь с Церковью, видимо, особенно углубляется, все это «странствие-возвращение» становится особенно целеустремленным. Отсюда и впечатления проф. Л. Ржевского, который ощутил в этом странствии наличие «ведомости» – присутствие Чьей-то незримой, но явно ведущей руки[84].
В это же время и Г. Адамович, беседуя по радио с Россией, уже убедительно говорит о том, что Борис Зайцев «христианин и притом христианин церковно-послушный, смиренный, без всякого вольномыслия, без умственной гордыни, без поправок к Православию, которым на свой лад, вслед за бурей, поднятой Львом Толстым, предавались многие русские писатели»[85]. Эта беседа о писателе Борисе Зайцеве как нельзя лучше определяет всю тональность его книг и настроенность в ней отраженную. Если весь жизненный путь Бориса Зайцева был постепенным его воцерковлением, постепенным приобщением к богочеловеческому организму Церкви, то не следует ли нам думать, что АФОН и – еще в большей степени – ВАЛААМ были особенно значительными этапами на этом пути, этапами, плодотворными и для «художника русского» – Бориса Зайцева.
Вашингтонский Университет, Сиэтл, Вашингтон. Дек. 1975 г.