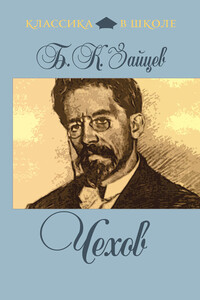Последний этап пути к Валааму – на монастырском пароходике. Отчаливают от Сердоболя и выходят на простор Ладожского озера. Небо хмуро. На воде «прохладно. Невеселое предвечерье севера». Впереди, еще очень «далеко, но уже белея Собором, сам знаменитый Валаам». «Возраст всего этого – сотни лет. Корень – Россия. Поле деятельности – огромный край» (с. 193). А первыми делателями и основателями монастыря – преподобные Сергий и Герман. В монастыре их можно видеть на многочисленных иконах. Сведений о их жизни сохранилось мало. Вглядываясь в историческую даль четырнадцатого века, только и ощущаешь их величие и уже легендарность (с. 195). А самый остров Валаам, что громоздится на гранитных глыбах над озером, – это уже не Афон с его солнечными виноградниками и нижней зеленью оливковых рощ. «Здесь бьют волны, зимой метели ревут, северные ветры валят площади леса. Все громко, сильно, могуче. Лес – так вековой. Скалы – гранит и луда. Монастырь – так на тысячу человек»… (с. 195).
Попутчик, – педагог из Таллина, – предупреждал, что «внутренняя, духовная и поэтическая» сторона Валаама раскрывается не сразу: К Валааму, – говорит он, – «нужно подходить молитвенно», «направляться к нему духовно» (с. 196). И сказано это было очень кстати, ибо в первые моменты встречи Валаам расхолаживает: кроме чисто мирской, казалось бы, хозяйственности, слишком уж монументален Собор, – «огромный и роскошный, но какой холодный» (с. 195). Старый, построенный в начале прошлого века, был снесен при Александре Третьем, а новый, воздвигнутый на его месте, увы, отражает «бедную художнически эпоху» и убеждает лишь в том, что в его строителях иссякло «исконно православное художническое чутье» (с. 195).
Однако за монументальностью этого фасада, за всей хозяйственной суетой, открывается паломнику все та же милая его сердцу смиренно-молитвенная Русь. Ее жизнь – в скитах отшельников, в скромных часовенках и храмах, что уединенно прячутся в лесной гуще Валаама, в зеленых зарослях ближайших островков. И следуя за паломником по скитам, опять, как и на Афоне, мы наблюдаем все им увиденное и слышим все, что довелось ему услыхать. Опять те же монашеские лица и такие же тихие простые их речи.
Умиленный русский паломник об Италии как бы и забывает: слишком он поглощен своим, русским. Поэтому о Валааме все пишется в едином ключе, в одной настроенности. Здесь нет пряностей Востока, не чувствуется загадочности, нет тайн. Но, как и прежде, запечатлевая в памяти монашеские лица, вспоминает паломник-художник то любимые полотна Нестерова, то русское средневековье.
Первые, слишком суровые впечатления о природе Севера воспринимались как бы извне, с палубы пароходика. В монастыре, при взгляде «изнутри», они смягчаются и светлеют. Пробираясь с женой от скита к скиту, по тропинкам или проходя вдоль берега лодкою, паломник-Зайцев смотрит и не может насмотреться: «Какой мир, какой воздух, как прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор – сосны, ели столетние. Кое-где береза. И сколько зелени, какие лужайки! Все светлое, очень тихое и нетронутое» (с. 196).
* * *
В 1936 году на книгу о Валааме откликнулся Г. Адамович и восстал против «гипертрофии нежности и сладости, по существу очень заразительной». В Борисе Зайцеве, как и в прошлом, он увидел больше мечтательности, чем действительного благочестия. Писатель де приезжал «насладиться покоем, полюбоваться древней скудостью быта, подумать о вечности. Отдохнуть, одним словом». «Зайцевский рай, – думает критик, – легкий рай». Писатель де не отдает себе отчета в трудности подвига, о котором свидетельствует[79].
Как я ни ценю тонкости и глубины суждений покойного критика, в данном случае мне трудно с ним согласиться. Если человек может любоваться красивыми вещами, картинами, которых не способен создать, то почему же ему, как мне кажется, не любоваться красотою духовной, любоваться тем, что самому недоступно? И почему же не думать человеку о вечности? Не на ветер же было сказано – «помни последняя твоя и ввек не согрешишь». А ведь этой «скудостью быта» Б. Зайцев не только любуется. Видя этот подвиг, он и сам, – мы это чувствуем, – земно кланяется, просит молитв, готовится к исповеди и причастию. Он вмещает то, что может вместить, и с умилением склоняется перед теми, кто способен вместить большее. И при этом, почти ни слова о себе – все только о впечатлениях. И, разумеется, растроган он не только духовным подвигом, ибо довелось ему здесь увидеть чудом сохранившийся осколок утерянной когда-то им Руси и, увидев, испытать радость и душевно согреться. «Путь духовной жизни в том и состоит, что чем выше поднялся человек в развитии своем внутреннем, тем он кажется себе греховнее и ничтожнее, тем меньше сам в своих глазах рядом с миром Царствия Божия, открывающегося ему» (с. 249). Не зайцевские это слова. Это говорил игумен, постригавший одного из монахов в схиму. Но вот паломник Зайцев эти слова запомнил и записал, и значит, понял, проник мыслью и чувством в самую суть православного молитвенного подвига. Где же тут место зайцевскому «легкому раю»?