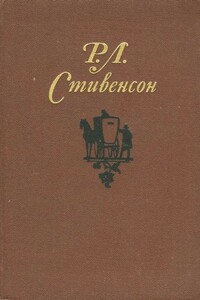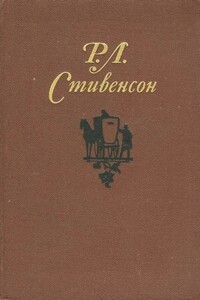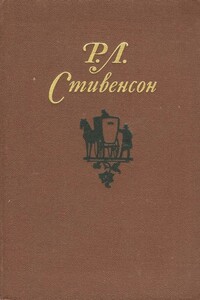Я налил всем вина.
— Позвольте мне предложить тост, — сказал я вполголоса, — вернее, три тоста, но все они так переплетены друг с другом, что разделить их невозможно. Прежде всего я хочу выпить за здоровье храброго, а тем самым и великодушного неприятеля. Он встретил безоружного и беспомощного беглеца. Он, точно лев, презрел столь легкую победу и, вместо того, чтобы без труда доказать свою доблесть, предпочел обрести друга. Вслед за этим я хотел бы, чтобы вы выпили за самого прекрасного, самого деликатного недруга — за ту, что заметила узника в темнице и своим бесценным состраданием вселила в него бодрость; я знаю, всеми ее поступками с того часу руководило милосердие, и я могу лишь молиться (надеяться не смею!), чтобы она и впредь не оставила меня своими милостями. И еще я хотел бы впервые и, должно быть, в последний раз выпить за того, боюсь, вернее надо сказать, — за воспоминание о том, кто сражался не всегда бесславно против ваших соотечественников, но пришел сюда уже побежденный, чтобы вновь быть побежденным дружеской рукой одного из вас и незабываемыми очами другой.
Быть может, в иные минуты я слишком возвышал голос, а быть может, Рональд, который за гостеприимством забыл обо всем на свете, слишком размашисто, со звоном поставил на стол свой бокал. Но так или иначе, едва я успел закончить свою заздравную речь, как мы услышали глухой удар в комнате над нами, словно некое весьма грузное тело свалилось с постели на пол. В жизни еще не доводилось мне видеть такого неописуемого ужаса, какой выразился на лицах моих хозяев! Было предложено поскорей вывести меня в сад либо спрятать под набитый конским волосом диван, стоящий у стены. Но приближающиеся шаги явственно сказали нам, что исполнить первый план мы уже не успеем, второй же я с негодованием отверг.
— Милые мои друзья, — сказал я, — предпочитаю умереть, нежели поставить себя в смешное положение.
Едва слова эти слетели с моих губ, как дверь растворилась, и на пороге встала моя незабвенная приятельница с золотым лорнетом. В одной руке тетушка держала подсвечник с зажженной свечой, в другой, твердостью не уступавшей руке драгуна, — громаднейший пистолет. Тетушка куталась в шаль, из-под которой выглядывала белоснежная ночная рубашка, а голову ее венчал весьма внушительный ночной чепец. Так явилась она пред нами; поставила свечу, положила пистолет, видимо, заключив, что в них более нет необходимости, молча оглядела комнату — но молчание это было красноречивей самых гневных слов — и, оборотясь ко мне с неким подобием поклона, произнесла дрожащим от негодования голосом:
— С кем имею честь?
— Счастлив вас видеть, сударыня, — отвечал я. — Объяснять все в подробностях было бы слишком долго. И хотя встреча наша мне чрезвычайно приятна, но, признаться, я к ней сейчас никак не подготовлен. Я уверен... — Но тут я понял, что ни в чем я не уверен, и начал сначала: — Я весьма польщен... — И опять же понял, что нисколько я не польщен, а отчаянно сконфужен. И тогда я смело отдался на ее милость: — Сударыня, я буду с вами совершенно откровенен. Вы уже доказали свое милосердие и сострадание к французским пленникам. Я один из них. И если бы наружность моя так сильно не изменилась, вы, верно, признали бы во мне того «оригинала», который имел счастье не однажды вызывать у вас улыбку.
По-прежнему глядя на меня в лорнет, она сердито хмыкнула и оборотилась к племяннице.
— Флора, — сказала она, — как он сюда попал?
Обвиняемые пытались было что-то пролепетать в объяснение, но вскорости беспомощно умолкли.
— Уж с теткой-то могли бы быть пооткровеннее, — презрительно фыркнула она.
— Сударыня, — вмешался я, — они так и хотели сделать. Это я виноват, что вы ничего не узнали сразу. Но я умолял не нарушать ваш сон и подождать до утра, когда вам представили бы меня по всем правилам приличия.
Старая дама взглянула на меня с нескрываемым недоверием, и в ответ на этот взгляд я не нашел ничего лучшего, как отвесить глубокий и, надеюсь, изящный поклон.
— Военнопленные французы очень хороши на своем месте, — заявила она, — но я не нахожу, что им место у меня в гостиной.