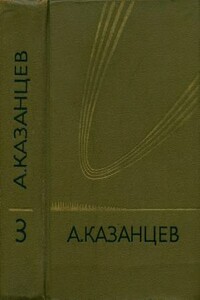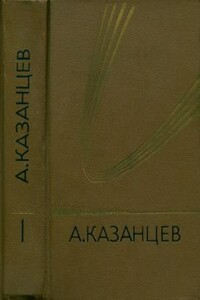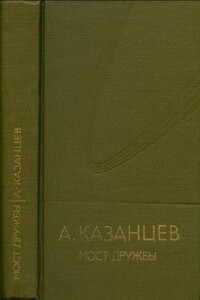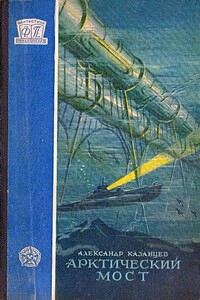Я бросился к нему. Ведь я могу оказать его тресту решающую помощь. Здороваясь, я протянул ему портфель. Босс тускло посмотрел на меня исподлобья. Его глаза казались сонными.
– Это дневник, мистер Никсон, – неуверенно начал я, расплываясь в улыбке. – Здесь все описано… Здесь ужас…
Босс усмехнулся.
– Ужас там, – показал он глазами на окно и отстранил портфель. – Ужас сейчас валяется повсюду, он дешево стоит. Вот так, мой мальчик. Идите к дьяволу и можете использовать свой дурацкий дневник для подстилки, когда будете ночевать в сквере на скамейке или под нею.
И он отвернулся. У него был крепкий, как у тяжелоатлета, затылок, переходящий прямо в шею.
Я не существовал для босса. Он не оглянулся.
Я выскочил за ним на улицу, но рука не послушалась, не ухватила его за полы пиджака.
Он сел в «кадиллак», почти такой же, как и мой, новый, никому теперь не нужный, и уехал.
Куда? Зачем?
Неужели и он погребен в развалинах антиядерного взрыва? Я видел улицы руин, которые лишь казались домами, толпы людей, которые лишь казались живыми, город, который лишь казался существующим, страну, которая лишь считалась богатой и сильной, страну, у которой отказался работать мозг… Да работал ли он когда-либо? Ведь у нас все было построено на стихийном регуляторе, на звериной борьбе, на конкуренции, на страхе быть выброшенными на улицу.
Я мог размышлять сколько угодно, даже стать нищим философом или философствующим нищим…
Мне некуда было идти. Домой, где домовладелец поспешит предъявить мне счет за квартиру, который мне не оплатить?
Начались страшные дни.
Газеты нашего треста закрылись. Еще выходил «Нью-Йорк таймс» и еще несколько старых газет. Я тщетно старался сбыть свой товар.
Один редактор, возвращая мне рукопись, покачал головой и посоветовал продать дневник в Москву… Я был ошеломлен. Мне казалось, что мои симпатии сквозили в каждом моем слове. Я всегда был предан свободному миру.
Я ночевал в своем проклятом «кадиллаке», на который истратил столько денег. С ними можно было бы протянуть, а теперь…
Я не смел и подумать о том, чтобы попросить помощи у отца. Каково-то ему теперь?
Пособия по безработице отменили. Государство не могло принять на себя весь удар антиядерного взрыва. Но голодным толпам все еще пока выдавали бобовый суп.
Да, я опустился до этого и часами стоял в длиннейших очередях, чтобы получить гнусную похлебку.
В кармане я сжимал потной рукой несколько своих последних долларов…
Мы ели похлебку стоя, прислонившись к столбу или к стене с плакатами, призывавшими посетить модный ресторан…
Мы не смотрели друг другу в глаза.
Я испачкал похлебкой свой серый костюм, но не смел показаться домой, боясь домовладельца.
Я ничего не делал. Оказывается, я ничего не мог делать, я решительно никому не был нужен со своими мускулами, со своими знаниями. Моя судьба ничем не отличалась от судеб миллионов людей, безнадежно толкавшихся на панелях Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии…
Если я не сошел с ума в городе, разрушенном атомной бомбой, то я терял теперь рассудок в городе, парализованном антиядерным взрывом.
Перестал работать сабвей. Взбешенная толпа однажды переломала турникеты, отказалась платить за проезд, взяла штурмом станцию «Централь парк»… и поезда перестали ходить. Биржевикам придется выбирать другие места для самоубийств… А может быть, не только биржевикам?
Обросшие, голодные люди бродили по великолепному и жалкому параличному городу.
Я брился электрической бритвой, сидя в своем «кадиллаке». Его аккумуляторы еще не разрядились. В баке еще был бензин. Я берег его, словно он мог пригодиться. Может быть, для того, чтобы разогнать машину до ста миль в час и вылететь на обрыв Хедсон-ривера?
Я понял, что должен напиться.
Я поехал во второразрядную таверну со знакомой развязной барменшей с огромными медными кольцами в ушах. Она видела меня с Эллен. Мы сидели тогда на высоких табуретах, и я сделал Эллен предложение за стойкой…
На табурете теперь сидела какая-то подвыпившая женщина. Я взобрался на соседний и заказал виски.
– Хэллоу, Рой!
Я вздрогнул. В ее голосе послышались такие знакомые нотки.