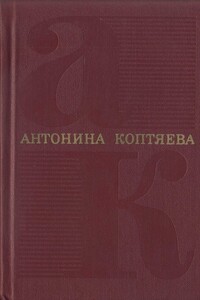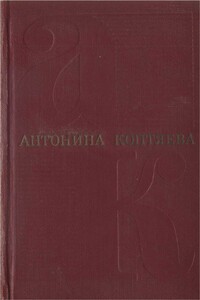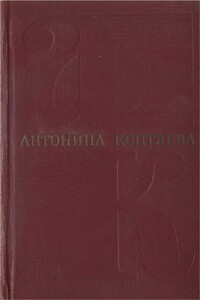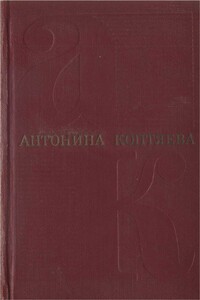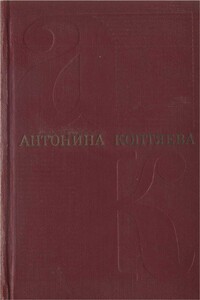— Как вы насчет колхоза? — осторожно спросил Ярулла.
— В первый раз не пошел: Бадакшанов сбил меня с толку, но тогда колхоз и вправду развалился. Нынче подаю заявление. Если такой порядок устанавливается, надо идти вместе с народом. А ты, сынок, у нас останешься или обратно в город?
Ярулла, конечно, даже не помышлял о том, чтобы остаться в деревне: отвык он от нее, да и встреч с Зарифой боялся.
— Я обратно в Казань. У меня там квартира, работа хорошая.
— Хорошая? — Хасан задумчиво пощипал еще темные усы. — Татары издавна в городах либо торговцы, либо дворники, а то еще старьевщики; куда ни сунься: «Стары вещи покупай!..» Так и поют, как муэдзины на минаретах! Я в гражданскую, как и твой отец, кое-где побывал, многое видел, но из деревни меня не манит. Нет ничего краше хлебного поля, когда оно зеленью оденется, а еще лучше — зашумит спелым колосом. Дождик его оросит, ветер обдует, солнышко пригреет. Какая красота перед тобой: и горы, и леса, и река — серебро чеканное, птицы звенят на тысячу ладов. Все признают: нет края красивее Башкирии. Ты через нее проехал по дороге в Казань, видел, какая она! А в городе мне тесно, скучно: городской двор будто яма глубокая. — Хасан помолчал, сухой, жилистый, с наголо обритой головой; понял — не тронули зятя его слова. — Значит, увезешь Наджию в город? Выходит, такая ей судьба. А судьба — что сварливая жена, ее не переборешь.
На свадебном тое все было, как полагается. Правда, не мчался шумный конный поезд, не везли приданое в тяжелых сундуках. Просто на паре лошадей подвез Ярулла Наджию к самому крылечку отцовской избы, и Шамсия (как это делали все татарские женщины) выбежала навстречу и положила на снег подушку, чтобы мягкой была жизнь невестки с мужем, чтобы не водилось в доме ссор. Наджия, прикрывая лицо платком, выпрыгнула из саней, сразу став обеими ногами на подушку, а с нее, словно большая ловкая кошка, перемахнула на ступеньку крыльца, вызвав одобрительные возгласы собравшихся во дворе гостей, и званых и незваных. Потом она степенно вошла в избу, села на нары и помолилась вместе со всеми, проводя по лицу сложенными ладонями и повторяя в общем вздохе:
— Бисмилла[1].
Совершив этот обряд, Наджия с помощью золовок начала разбирать сундук с приданым: стелить свои скатерти, вешать занавески, а над окнами и дверью — длинные полотенца. Свекру и свекрови она подарила платье, рубашки, коврики для совершения намаза [2]и вышитые ею полотенца — вытирать ноги, омытые перед молитвой.
Почти два дня шло гульбище: пили кумыс и пьяную медовку, ели шурпу [3], балиш[4], бешбармак. Совсем как у богатых людей получился той, но Ярулла тосковал и тревожился: боялся, что придет Зарифа и всех высмеет. Опасения его оказались напрасными: она не пришла. Спросить о ней он не решался даже у сестренок. Однако долго гадать не пришлось, стало известно, что бойкая девушка опять уехала в город.
10
После свадебных расходов Низамовы, еле сводя концы с концами, жили впроголодь. Последние дни отпуска Ярулла гостил с женой у ее родителей: там было просторнее и не так скудно с едой. Тоска, охватившая его перед сватовством и во время свадьбы, прошла: сдержанно-ласковая, пышногрудая Наджия пришлась ему по нраву, как приходится по плечу в мороз удобный, теплый тулупчик, тем более что ее цветущая молодость обещала здоровое потомство.
Зато все сильнее беспокоило его положение в семье отца: мать нездорова, девчонки — плохие помощницы в хозяйстве, а хлеба до нового урожая не хватит. Как жить будут? Правда, они в колхозе, но колхоз-то пока одно название. Значит, надо скорее возвращаться в Казань и вместе с Наджией браться за работу, чтобы прислать домой хоть немного денег.
— Помоги, сынок, дров привезти. Председатель колхоза дает коня, — сказал Ярулле отец, как и все родственники, опечаленный предстоящим отъездом молодых. — Вдвоем быстренько воз накидаем.
Утром Низам, туго перепоясанный кушаком по заношенному бешмету, заехал за сыном, и они отправились в лес. В бледно-голубом небе неярко золотилось солнце. Опушенные инеем тонкие косы берез и черно-белая пестрядь стволов сливались с белизной сугробов. Заваливаясь в снегу до пояса, мужчины таскали к дороге валежник, заготовленный по осени, он был легок, и воз накидали изрядный, сверху наложили хворосту, да еще отец умудрился сесть.