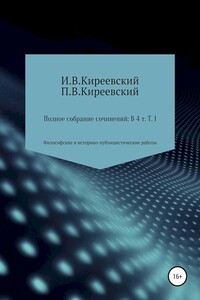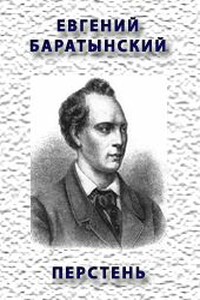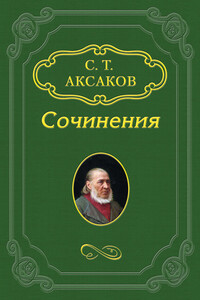«В этом дыме, соединившемся с волховскими туманами, пропали все промежутки между теперешним городом и окрестными монастырями, бывшими прежде также в городе, так что город мне показался во всей своей прежней огромности, а заходящее солнце, как история, светило только на городские башни, монастыри и соборы и на белые стены значительных зданий, все мелкое сливалось в одну безличную массу, и в этой массе, соединенной туманом, было также что-то огромное. На другой день все было опять в настоящем виде, как будто в эту ночь прошли 300 лет, разрушивших Новгород».
Он и комнату нанял себе в Новгороде, хотя скверную внутри, но зато на берегу Волхова, с видом на Кремль и Софийский собор, «самое прекрасное здание, какое я видел в России».
Весною 1835 года Авдотья Петровна с дочерьми отправилась за границу лечиться, с ними поехал и Петр Васильевич, частью чтобы быть при них, частью тоже пить воды по совету врачей. Перед отъездом, 1 мая, он вышел в отставку, окончательно расставшись с архивом. Он поехал на Петербург (Авдотья Петровна уехала раньше) и пробыл здесь несколько дней, дружески принятый Жуковским, Пушкиным и товарищами брата. Из Петербурга он поехал морем до Любека вместе с Н. И. Надеждиным, Княжевичем и Титовым, оттуда сушею на Гамбург, Кассель и дальше. В его письмах из этой поездки уже чувствуется та глубокая душевная усталость, которая затем больше не покидает его. Он пишет брату:
«Я не без удовольствия увидел опять Германию, которая оставила во мне много воспоминаний дорогих и в которой есть много глубоко поэтического, но вместе с тем я испытал и грустное чувство старика, который возвращается на место, давным-давно не виданное. Может быть, потому только и живы первые впечатления, что с ними соединена безотчетная надежда на неизменность каждого явления, на вечность всего; а как скоро родится чувство суеты и ломкости, то, что было бы прежде живым впечатлением, становится холодной теоремой, вместо того чтобы чувствовать — как это хорошо! — думаешь только — что бы это значило? — и, разумеется, тупеешь ко всему внешнему, то есть стареешься. Всегда грустно видеть иначе то место, где было весело, и потому я все больше и больше убеждаюсь, что настоящее счастье может быть только в одном вечно однообразном движении. Но это чувство во мне не новое, и ты его знаешь во мне».
Эти строки драгоценны, потому что они открывают нам тайную сторону душевной жизни Киреевского. Он являлся перед людьми спокойным, благожелательным — и никто не знал, как страстно, как болезненно-чутко он жил внутри, какой острой болью отзывались в нем на вид обыденные впечатления. Эта буддийская жажда покоя, которая слышится в том письме, — не равнодушие к жизни, а усталость сердца, слишком чувствительного и изъязвленного жизнью. Каждую радость приходится хоронить — лучше уж не надо радостей. Так и Лермонтов проклял радость, потому что она бренна[421]. Кто дешевле расплачивается за свои чувства, разумеется, так не рассуждает.
Осенью Киреевский вернулся в Россию. 1836 год ушел у него на хозяйственные хлопоты: ему пришлось взять на себя семейный раздел. Задача оказалась нелегкой, главным образом, по-видимому, из-за алчности и мелочности жены брата, Натальи Петровны. На каждом шагу возникали гадкие дрязги, и нужны были вся деликатность и бескорыстие Петра Васильевича, чтобы мирно все уладить. Вообще это было для него и, по-видимому, для всей семьи трудное время.
«Моя молитва, — пишет он матери, — об одном: дай Бог нам всем бодрости и здоровья! Тогда все будет; Провидение есть, и наш корабль не без кормчего. Наконец все-таки ж одолеет не ложь, а правда. А буря этих последних нескольких лет может быть нам и не казнь, а благо. На себе я по крайней мере чувствую, что она смыла с меня много греха, и, взамен того что у меня прошла охота смеяться, я научился ценить многое, чего прежде не понимал».
Долбино досталось Ивану Васильевичу, а Петру — та деревня под Орлом, где он ребенком жил с родителями в 1812 году перед смертью отца, Киреевская Слободка. В январе 1837 года он в первый раз приехал сюда в качестве хозяина. К осени он отстроил себе в Слободке новый дом, но еще не успел обжить его как следует и упорядочить запущенное хозяйство, как принужден был надолго покинуть Слободку: в марте 1838 года он поехал в Симбирскую губернию выручать Языкова (поэта), с которым был связан почти братской дружбою. Языков был тогда уже очень болен; надо было почти насильно увезти его из деревни в Москву для консультации с врачами; а когда московские врачи предписали больному мариенбадские воды, Петр Васильевич поехал с ним и ухаживал за ним (Языков почти не двигался), как любящая сестра, в Мариенбаде и потом в Ганау до конца года, когда его сменил брат Языкова; в Россию Петр Васильевич вернулся только весною 1839 года