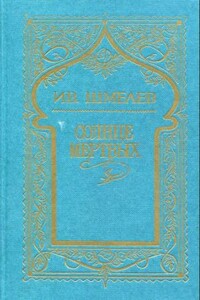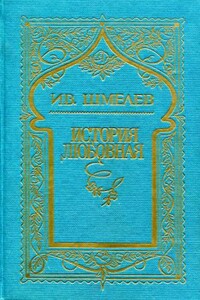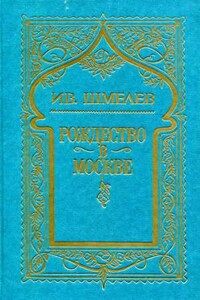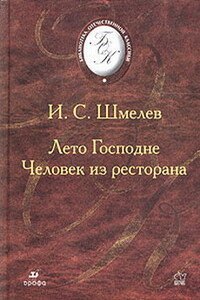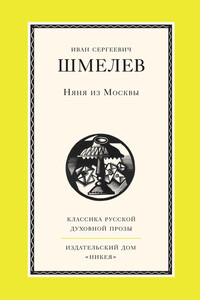…illusions perdues
promesses… pas accomplies!..
Жизнь обманула, сойдет впустую…
Смотрели в эстакаду, давили на решетку. Глаза вбирали: правда, правда. Басы хрипели:
Быть может, преображенной песнью приоткрылось – что росточком дремлет, мерцает в каждом? что стоит загадкой, томит поэтов, опаляет душу, томит разгадкой? что было изначала слова-чувства – сознанье обреченности бессрочной?
Это было в песне.
Слепой стоял недвижно, глядел над всеми. Рука его дрожала, с флейтой. Веселый дернул мандолиной, опустил к ноге и слушал.
Кончалась песня. Голоса стихали. Осталось трое. Голос сорвался воплем:
Виолончель тянула, умирала… – plonn!.. – лопнула струна. Гармонья приглушенными басами еще хрипела…
Песня кончилась. Молчали, словно ожидали – дальше. Кто-то крикнул – bravo! Захлопали, зашевелились, вынимали деньги. В желтых пальто, стояли у решетки, ждали. Один сказал певице, путая словами:
– Мадам, донэ… сэ нот… пур ну… на память!
Певица сунула листочек, усмехнулась. Сказавший четко приложился к шляпе.
Эстакада громыхала реже. Стало посвободней, но публика еще валила с лестниц. Дождь редел. Солнце хотело выглянуть. Передний что-то сказал. Певица взяла «тарелки». Малый встряхнулся, звякнул мандолиной, мотнул гармонь-ей. Виолончель наставила смычок, – и грянули.
«Марсельезу» заиграли.
Толпа сомкнулась, подхватила дружно. Нот не надо: слова и звуки знали с детства, – о родине. Наваждение слетело. Под ногами была земля, своя, родная. Пропала эстакада со столбами, гул и громыханье. Бешено играли артисты улиц! «Тарелки» оглушали, бились вдребезг; виолончель взрывалась; свистела флейта; гармонья извивалась брюхом; мандолина… Малый вертелся на ноге волчком, другая двинулась в поход, стучала пяткой. Топотали, свистали, прыгали, сбегая с лестниц; бухал ящик, стучали кастаньеты, – ключами выбивали по решетке.
И стало ярко.
Солнце смеялось окнами напротив, сверкало в лужах, на бешеных «тарелках», на гармонисте, на его гармонье, в звонках и блестках, на решетках. На губах трубили, – легко бежалось.
Музыканты двинулись в бистро, через дорогу. Можно теперь и выпить: погода, и заработали недурно.
Двое, в желтых пальто, пошли плечо к плечу. Остановились: автомобили запрудили ход.
– А лихо это у них вышло! – сказал один.
– Еще бы, свое!..
Брызнуло опять, и завертело.
Постояли, поглядели туда, сюда…
– Ну, allons… Пошли куда-то.
Октябрь 1925 г.
Ланды
На песчаных холмах, у океана, я с удивлением встречал рыжие шалаши, из сосновых ветвей, очень похожие на наши, откуда-нибудь с Оки, – временное жилище плотогонов, маячников и луговых сторожей.
Идешь по сыпучему песку, поросшему кое-где колючкой и жесткой травкой, завидишь такой шалаш, – и грустью захватит сердце. Пусто на океане, глухо по побережью, и пуст шалаш; посвистывает в щелях тугим океанским ветром, звенит по сухой хвое. Иногда торчит над шалашом вешка, – и кажется, что высунется вот-вот лысая голова никому ненужного старика, состоящего при лугах, с Господней помощью охранителя многоверстной поймы, или выглянут лохмы калужского плотогона, прихваченные мочалочкой. И вспомнится ярко-ярко, как пахнет еловой гарью, махоркой и черным хлебом. Позванивает ветром, океан тяжело шлепает волною, взмыливает пустой песок, – а в памяти проступают – спокойные светлые глаза, мягкая русая бородка, тяжелая рубаха, скатавшаяся на вороте, загоревшая дочерна грудь, крестик на бечевке… Вспомнишь даже, как вякает назойливая собачонка, безродной русской породы, Жучка или Волчок, всегда голодная, но крепко преданная хозяину в его бездомовной жизни.
Нет, эти шалаши – не наши, не для жилья: это тайник-засада, для птицеловов. Здесь, побережьем океана, проходит невидимая дорога, извечный путь осеннего перелета птиц.
С севера и востока, с родимых мест, гонимые холодами и непогодой, тянут они за солнцем, обходят Пиренеи, к югу… И вот, тихие шалаши, знакомые бедным птицам, – быть может, нежданная, радостная встреча, уже забытое и вдруг восставшее на пути?.. Кто знает!.. Чужой и грозный, океан шумит глухо, пугает темнеющею далью. И вдруг, усталый птичий глазок приметит вдали знакомое: поле, кустики, шалаши…