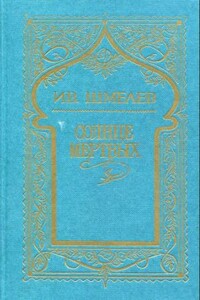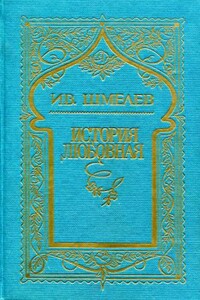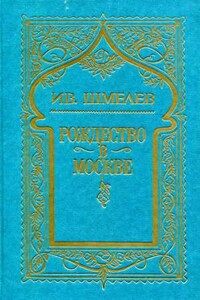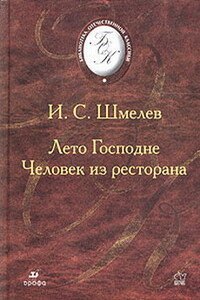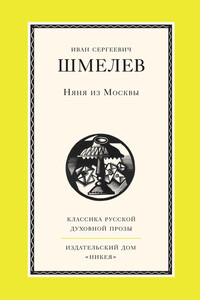Я никогда не думал, что их так много, далеких – близких, родимых птиц; что милые наши коноплянки, овсянки, славки, малиновки, соловьи, жаворонки… – эта веселая, звонкая птичья мелочь, которую наш народ пометил ласковыми словами, кому-то несет доход!..
– Подходит веселенькая пора, мосье… – говорит Ружэ, плотный немолодой француз, с горячими темными глазами, вправляя в штаны вылезшую рубашку.
На его крепком, словно налитом медью, лице крупные капли пота: он весь вспотел, яро выпалывая цапкой широкую площадку на луговине, но глаза его светятся азартом.
– Да, мосье Ружэ. Если осень погожая, чудесно. Собираетесь что-то сеять?..
– Не сеять, а собирать, мосье. Это получше будет, не правда ли?!.
Он плутовато подмигивает и крепче подтягивает ремешком штаны.
– Начинается пролет птичек. Летят миллионы их… кюблян, ортолян, линот, сипо… Но это все мелочишка. Вот когда полетит доход… десять су за штучку…!
– А это..?
– Алюэт, мосье! А по-вашему..? А, жа… вёрёнки… За них пла-тят! Бордо, Париж… Это очень тонкое кушанье… тррэ бон! Особенно головки. И грудки, и горлышки, но… головки..!
Когда полетят жаворонки..!
Я узнаю, что жаворонки, овсянки, коноплянки, трясогузки… – вся пернатая мелюзга миллионами тает по побережью, что птичками можно заработать на всю зиму.
– И это будет тянуться… два месяца! На это время я всегда бросаю свою штукатурную работу… – с радостным возбуждением говорит Ружэ. – Одною сеткой можно нахлопать их… тысячи на две франков! У меня две площадки… вы понимаете? О, это, я вам скажу, золотые птички! А когда вы попробуете головки… – он сочно щелкает языком, – тррэ бон!!.
Каждое утро теперь я слышу, как Ружэ хлопает.
На луговине, еще не застроенной дачами, стоит такой же шалаш, какие встречал я на побережье. Из окна я вижу гороховую блузу и серую каскетку мосье Ружэ. Он стоит перед шалашом, за рыжим щитом-забором, и вдумчиво смотрит в небо. Его руки сложены на груди крестом. Во рту у него поблескивает пищик Он смотрит в синее небо с верой и упованием, – на север, откуда летят птицы. Порой начинает насвистывать, журчать и пикать. Можно подумать, что Ружэ молится на небо. Может быть, он и молится, – кто знает!
Я выхожу и тоже смотрю на небо, но ничего не вижу. А Ружэ видит: он вертит шеей, подымает лицо к небу, трелит-журчит нежнее… Я жмурюсь, забываю мосье Ружэ… – жаворонок звенит в небе! Я вижу голые черные поля, еще не обсохшие дороги… светло зеленеющие овсы, росистые луга к ночи… жаворонки играют…
Открываю глаза. Ружэ – перестал молиться, его не видно; но над растянутыми сетями, на площадке, попрыгивают птички, привязанные за хвостики. Это мосье Ружэ начинает «играть птичками». Они выплясывают над сетью, вспархивают и вертятся. Можно подумать, что они счастливы: измученные дорогой, они что-то нашли на вылощенном току и радостно призывают новых! Глаз Ружэ остро видит: летит стайка. И стайка видит: порхают птички. Выводит трельки мосье Ружэ; но это, конечно, щебечут птички… Теперь уж и я вижу, как налетает стайка. Она летит низко, ныряет, мелко трепещет крыльями, с знакомым шорохом воробьев – пырр… пырр…
Кто они, в этой стайке? Они так трепетны, так мелки. Они пролетают мимо, завинчивают в полете и опускаются на площадку… Взлетают сетки и накрывают: хлоп-хлоп!
Удачно хлопнул мосье Ружэ.
Он выбегает из шалаша и принимается выдирать трепыхающиеся в сетях комочки. Он это делает мастерски: чуть прищипывает за горлышко и быстро сует в карман. Снова раскидывает сети и – на молитву.
А они все летят.
К вечеру Ружэ устает. Все реже налетают стайки. Я вижу бурые вороха перья, перепутанного проволочками ножек, коготками… Я едва различаю коноплянок, овсянок; но жаворонков я вижу ясно.
Каждый день, с раннего утра, я слышу, как хлопает на луговине. А они все летят… Гонит их с родины ненастье, ведет солнце.
Я встречаю всюду разбитые их стайки. Они пугливо таятся в жесткой траве холмов, по лесным опушкам, по виноградникам, по садам, на задворках, на бульварчике городка. Они замучены, запуганы и разбиты. И голодны. Но они все летят… Я нахожу их на лесных тропинках, на камне большой дороги. Они присаживаются на проволоках, на щебне, по кустам, в канавах… Я слышу, как пахнет ими, уже приготовленными для рынка.