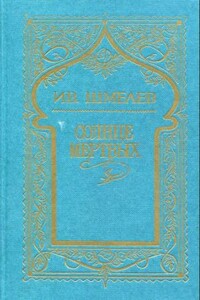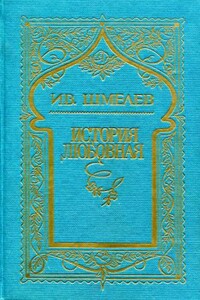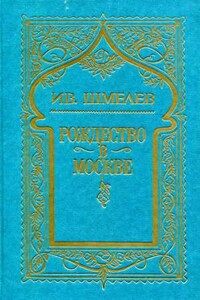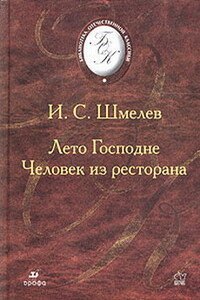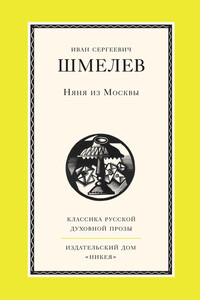Я видел благоустроенные квартиры преуспевающих, с приблудной мебелью, куда не вселяются «макарки» и повара с гармоньей, логовища и норы страстотерпцев, взъерошенные уголки сидящих на острие. Я увидал много людей ничто, нигилистов навыворот, с просительными улыбками, с суетливым сованьем руки «товарищу». Я слышал «товарищ… товарищ… товарищ…» – с беспокойством во взгляде, с бессильным отвращением перед собой – за дверью. Нетвердые позы в автомобилях, льстиво-наигранное – «что за машина у вас, товарищ!». Видел покрасневших профессоров – сваренных раков в кухаркиной лохани, с выпучившимися глазами, – от удивления перед собственной дерзостью? От стыда?.. Девушек, чистеньких когда-то, недавно чутко внимавших «красоте в искусстве», – теперь бойко потряхивающих кудряшками за машинкой в фантастическом учреждении, состоящих в браке на полчаса за милостивую поблажку щелкать и получать – на туфельки. Театральных дел мастеров, когда-то «высоко державших знамя», за пятак отвернувшихся от святого, познавших наконец-то потребность времени, с убеждением перестраивающихся от «настроений» к строю, кричащих зычно – «здравия желаю!» – но… с уважением к «священным традициям театррра…». Увидал пришпиленных на булавочку, привязанных на веревочку, застуканных до отказу и все еще подающих признаки жизни – и улыбающихся. И ни от кого не слыхал смелого крика: да смерть же лучше! Кто смогли и посмели – погибли с боем, погасли или ушли. Осталось складное или застуканное в отказ. Отбор закончен.
Постепенно я распродал все, что еще уцелело и хоть чего-нибудь стоило на рынке. За пустяк разбазарил самое дорогое, собиравшееся годами, жертвой: книги, атласы и гравюры, камеи, танагры, античные монеты, – укрытое от рук хватких, находил ловкачей-посредников, отслюнивавших мне грязные миллиарды; европейско-американских стервятников-скупщиков, бешено пожинавших жатву великого погрома, забирающих под полу все – от древней Библии в свиной коже до похабного альбома в небесно-голубом шелке с серебрецом. Иногда я раздумывал и вздыхал над книгой, над гравюрой, над безрукой танагрой… и говорил ободряюще: там, где-нибудь, мы встретимся!.. Я очищался от прошлого и переводил неповторимое в линючие миллиарды – призрак, а их в реальность. Я познал тревожный и жадный шепот летучей биржи, алчную цапкость рук и сомнительную охрану подкладок и воротников, долбленых палок, просверленных каблуков, «американских» подошв, двуднищевых чемоданов и слюнявых «сейфов», за зыбкими стенками укрывающих золотые, готовые провалиться в брюхо. Я постиг условные слова-знаки, темные чайные на углах, тупички в скверах, забытые уголки оплаканных часовен, кривые, шаткие лестницы к скупщикам и замшелые мешочки, насыпанные каратами.
Нюхом бродящего у западни зверя, закрутившейся до отказа волей я нащупал людей, до смерти дерзких, которые знают пути и могут поднять шлагбаум… Я узнал, что в облавной сети, где бьются тупоглазые караси и жором играют щуки, есть дырки, прогрызенные щурятами. И я решил – проскочить.
Я готовился, храня тайну. Пигалицы одни лишь знали.
В конце августа я простился с дачей. В дырья-окна я поклонился далям – золотым рощам, пустым полям. Постоял на балконе вышки, слушая шепот прошлого, снял забытую в пустоте икону… Я подарил Михайле хорошую лопату – добывать клады, а бабе Марье разбитое корыто – последнее, что осталось, – послал прощальный привет оврагам, где было красно и пусто, – соловьи уже улетели, – и переехал в город, где были «дырки».
Сдорогими подошвами на пробитых буцах, с драгоценной палкой – над ней я долго трудился, и ни один досмотрщик не отыскал бы на ней ни знака и не настукал звука – я вышел налегке, на зорьке, с корзинкой, от бюлотца к болотцу, я разыскал опорные пункты – лесовые избушки, рыбачьи шалаши на глазу у стражи… – и вытверженная карта развернулась передо мною тропками и путями, болотами и лесами, ночами тревог и душевной мути…
Я стал свободным.
XI
И вот – Европа…
На зыбкой черте мертвого и живого, когда лодка, затаиваясь в блеске, протаскивала меня под шарившими во тьме усами сторожевых прожекторов, я мысленно протягивал к Европе руки. Она поймет! Много у ней забот и величавых планов, многого она не знает… Я расскажу ее конгрессам, мыслителям, политикам, ученым, славным ее, покажу… брю-ки-диагональ, дробинки, мешок, портянки… душу ей покажу свою, – какая стала!.. – пигалицей буду кричать… Она поймет. Гордой человеком, первой в нем божество узревшей, – ей станет за человека страшно. А ее хранилища, где думы Величайших, сокровища, в которых – гений, идеалы и красота тысячелетий… – и видно даже слепому глазу победное движение!..