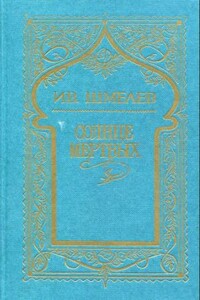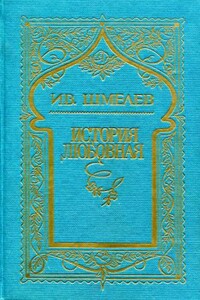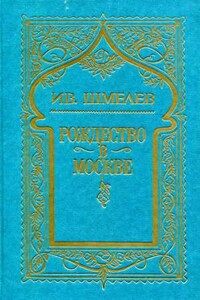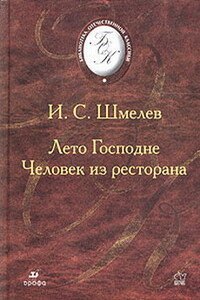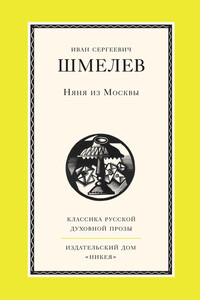Я слышал, как сдавило мне грудь, как хрустят ломающиеся без боли кости… Я кричал в опустевший воздух, в глухую чашу. Кричал беззвучно. И вот я вижу… Идут, разговаривая о чем-то, прямо ко мне, двое старых моих друзей, с которыми совершил я много славных экскурсий, не порывал до последних дней, изредка получая письма. Оба – славные европейцы, гордость своих народов, высокого совершенства люди. К ним я взывал, стараясь поймать глазами, сказать глазами, чтобы они узнали. Они проходили мимо… Одеты они были во всем новом, в чудесных пальто, с биноклями, с сумочками, какими встречал их на пароходах, по Средиземью, на пристанях. У них были крепкие трости с крупными набалдашниками из слоновой кости – тяжелыми биллиардными шарами, в золотой шейке. Они ловко играли ими, крутили в пальцах и говорили о чем-то важном. Как ловко эти шары крутились! Они проходили мимо. Я крикнул: «Сэр!..» я забыл имя. Я крикнул: «Мсье!..» Эти слова я помню. Только эти. Я кричал их на всех языках, какие знал. Я задыхался, мучился, чтобы вспомнить – зовут их как же?!.. Они прошли, не заметив меня, – ушли. Я крикнул, теряя воздух… Грохот и яркий блеск вырвали, наконец, меня из этого кошмара.
Я узнал сероватый рассвет в окне, услышал ливень. Гроза сплывала. Раскаты грома становились глуше, блистало реже, но ливень продолжался. Я лежал на спине и старался вспомнить чудесное, что я видел. Осталось только одно, глазом не уловимое, не выражаемое словом… – благоговение. Я не мог вспомнить линий, но музыка их осталась. Непостижимое. И осталось еще: тоска. Ушел и ливень, и теперь только шорох дождя с деревьев трепал по лужам. А рядом, в зале, лило с потолка потоком, как банным шумом. Пахло по-банному березой и теплой прелью. Ломило голову, как с угара, и разобрал я, что это с дурманных любок, что принесла мне девчонка Марьи – за куски сахару. Отравили меня фиалки, восковки милые… вынесли в Царство Света, в кошмар швырнули.
Поднятые грозой, взбитые блеском молний, соловьи заливали все. Я услыхал их снова и снова мучился. Не помогли подушки. Я вышел в сад, полный дождя и луж, шелеста и капели. Было тепло и банно, до духоты. Крепко березой пахло, фиалками с оврагов. Тоской давило. У края сада бежал поток, в его мутном беге, и в соловьиной песне, и в отблесках дальних молний чуялось беспокойство. И я сказал самому себе: надо скорей, скорей!..
До солнца бродил я в саду, по лужам.
Сон мой этот… Тут где-то, во мне или вне меня, невидимое было Царство, было! Оно же явилось мне… Неявленные мои возможности… нерожденные мои сны? Плавают они всюду, живут туманно, мукой стучатся в души. Родятся ли? Я чую слабые их следы, тысячами раскиданные по миру, гибнущие в своем сиротстве. В пыльных хранилищах что-то они лепечут – разбитые буквы Книги…
Дымился под солнцем сад. Выбитыми глазами смотрела на солнце дача. Милые тени пришли ко мне, тени из прошлого… Ужас, ужас! Здесь уже все разбито. А – там?.. Я об Европе думал. Столько там душ великих, какие сердца и силы! Сны там стучатся в души, хотят Рожденья!
И я повторял себе, надо скорей, скорей…
Помню, я подошел к решетке, глядел в зеленую глушь оврага, дышавшую золотистым паром. Соловьи заливали трелью. Я теперь мог их слушать. Родные они мне были, такие близкие! За непонятной их песнью-трелью чуялся нерожденный мир, разлитые возможности, с тревогой-болью ожидающие рожденья, гибнущие. Милые мои братья, пойте! Ожиданье, тоска и мука… – родное мне.
Это соловьиное утро ливня осталось в душе моей. Яркая зелень, блески. Розоватые тучки в небе, золотые верха оврагов, песни… И радость найденного пути. И сон, навеянный мне дурманом.
X
Начиналось чудо перерождения.
Я нашел небывалую остроту взгляда, мысли, – развил чудовищную энергию. В короткое время я обошел сослуживцев и уцелевших знакомых, и все таинственно спрашивали меня:
«У вас что-то такое… Что-нибудь слышали?..» Я таинственно ободрял.
Я хранил свою тайну, зная по опыту, как у всех обострился слух. У меня обострилось зрение, и я теперь ясно видел, какие дырявые носят маски и до чего щедровито вытряхивают остатки прежнего своего, лишь бы удержаться на гребешке.