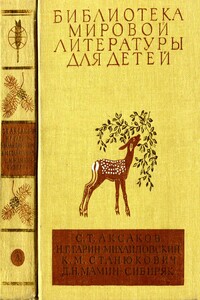Брат оправдывался, вынимал свою записную книжку, вынимал портфель, кошелек.
Карташев ушел подальше от них, сел на завалинку избы и смотрел на горевшую последними лучами волнистую даль Днестра. Солнце уже исчезло, и только из-за далекой горы, точно снизу, вырывались лучи, золотистой пылью осыпая верхи холмов. И на темном уже фоне окружавшие холмы казались прозрачными, светлыми, повисшими между небом и землей. Там в небе стояли всех цветов и тонов облака, меняя свои яркие и причудливые образы. И каждое мгновение появлялись новые сочетания; они казались такими установившимися и прочными, а в следующие их сменяло уже новое и новое.
Далекий отблеск земли и неба будил в душе какой-то отблеск чего-то далекого, забытого и нежного. Этот тихий вид догорающей дали, как музыка, ласкал и звал. Хотелось тоже ласки, хотелось жить, любить, хотелось, чтобы жизнь прошла недаром. Сегодня уже несколько раз касались в разговорах прошлого Карташева, когда он был красным еще. Таким он и остался в глазах Сикорских и теперь в глазах Пахомова. И ему как-то не хотелось разубеждать их в этом. Да разве и была такая большая разница между ним прежним и теперешним? Ведь не против сущности, а только против достижения цели, против мальчишеских приемов восставал он. Но там, где-то в глубине души, он чувствовал, что это уже новый компромисс, на котором трудно ему будет удержаться, что рано или поздно, а надо будет стать определенно на ту или другую сторону. Ну что ж, он и станет там, куда его увлечет жизнь. Он вовсе не из тех предубежденных людей, которые, раз сказав что-нибудь, так и будут стоять на этом до конца жизни. Никаких предубеждений! С открытыми глазами идти смотреть и искать истину.
А если так ставится вопрос, подумал вдруг Карташев, то, пожалуй, истина там, где была, когда он был в гимназии. Тем лучше!
Карташеву стало весело и светло на душе. Он вдруг вспомнил Яшку, Гараську, Кольку, Конона, Петра. Опять все они, и сегодняшний Тимофей, и все его рабочие сегодняшние, были близки ему, так близки, как когда-то в детстве Яшка, Гараська, Колька. К нему подошел Тимофей и, наклонившись, дружески сказал:
— Рабочим надо бы дать, что обещано.
— Конечно, конечно, — заторопился Карташев и полез в карман.
— А вместо Сидора, этого пьяницы, лучше бы нам взять Копейку.
— Неловко.
— Что неловко? Вы у Еремина попросите — он согласится.
— Почему не Сидора?
— Спаивать нас будет; он только об водке и думает. Все надеется, что работа лучше пойдет с водкой, а налакается и опять не может. Днем не надо пить. Лучше же вечером, с устатку. А днем лучше чайком бы их побаловать. Вот если б чайника нам добиться! Да еще подводу нам надо раздобыть: у всех есть, только у нас нет.
— Чайник будет, — ответил Карташев.
Старший Сикорский, окончив скучный разговор с братом, собирался с Никиткой в город. Карташев поручил ему привезти кое-какие вещи из его чемодана, широкую шляпу, купить высокие сапоги.
— Хотите мои? — предложил Леонид.
— Не берите, — брезгливо сказал Валерьян, — гадость какая, лакированные, как у лакея, и для болота совершенно не годятся. Вот какие сапоги надо! — Сикорский протянул ногу, показал некрасивые из толстой кожи сапоги.
— Хорошо, я вам такие куплю, — покорно согласился Леонид.
Карташев поручил купить большой чайник, металлических кружек шесть штук, чаю, сахару.
— Чай, сахар — общие.
— Мне еще нужно для рабочих.
— Это уж лишнее, — заметил сухо Сикорский.
— По-моему, тоже, — авторитетно поддержал Леонид.
— Мне надо на рысях все время работать, чтоб не задерживать вас, — оправдывался Карташев.
— Только, по крайней мере, не делайте на виду, чтоб остальных рабочих не взбаламутить.
В избе стало темно, и зажгли свечи.
Пахомов стал вычерчивать план, а Сикорский подсчитывать нивелировочный корнетик. Пикетажист диктовал Пахомову, а Карташев сверял свой корнетик с наносимой на план линией.
В десять часов Пахомов кончил и решительно сказал:
— Теперь спать!
— Сейчас и я кончаю, Семен Васильевич, — ответил младший Сикорский.
— Жребий, кто где будет спать! — сказал Пахомов.
Попробовали было протестовать, но Пахомов настоял. Карташеву досталось на полу, на свеженакошенной траве, закрытой рядном. Подушка его была в городе, и вместо подушки было взбито побольше травы.