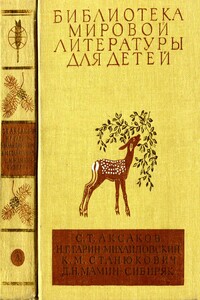Карташев лег, свечи потушили, и он сразу утонул в аромате своей постели, во мраке вечера, смотревшего в открытые окна. Там на небе не осталось уже ни одной тучки, и, синее, напряженное, усыпанное большими яркими звездами, оно смотрело в маленькие окна избы и звало к себе на волю, чтобы рассказывать какие-то неведомые, душу захватывающие сказки.
«Да, жизнь — сказка, — думал, укладываясь, Карташев, — и только тот, кто верит в эту сказку, — у того и будут силы, и ковер-самолет, и волшебная палочка; и моя жизнь сказка: я уже умирал и опять живу, и опять инженер, и вижу, что это моя дорога, и я на ней уже!» Мысли его как ножом обрезало, как только голова плотно прилегла к изголовью, и он заснул крепко, без снов, ровно до четырех часов утра, когда резкий пронзительный свист над ухом заставил его вскочить.
На скамейке, смеясь, сидел Пахомов со свистком в руках. А на столе уже стоял кипевший самовар, стаканы, масло, свежий хлеб, брынза, сыр, колбаса.
— Скорей, скорей!.. — торопил Пахомов.
Когда кончили чай, подъехал и Леонид Сикорский. Он был растрепанный, маленькие глаза красные и воспаленные.
— Хорош! — бросил пренебрежительно брат.
— Да, хорош, — тебя бы послать! — жалобно огрызался старший брат.
Никитка в торопливой выгрузке привезенного старался скрыть себя.
Карташев получил шляпу и сапоги.
— Ваши остальные вещи, — сказал Леонид Карташеву, — я сложил в номере главного инженера. Он сам предложил; чего же вам платить даром за свой номер.
— Отлично! Очень вам благодарен.
— Хотите, сейчас рассчитаемся или после?
Карташев давал Сикорскому сто рублей.
— Конечно, после.
Уходя на работы, Пахомов сказал старшему Сикорскому:
— Обедаем в Киркаештах.
— Слушаюсь, Семен Васильевич, я сейчас же прямо туда и поеду со своим скарбом.
И, наклонившись к уху Карташева, старший Сикорский шепнул:
— Ни одной минуты не спал ночью!
Тимофей хозяйничал энергично: вещи рабочих, чайники, чашки, сахар, чай, кое-какая еда, небольшой багаж Карташева, колья — все это было уложено на подводу, и не было еще пяти часов, когда потянулись из деревни партии с рабочими. Впереди широкими шагами выступал Пахомов рядом с Карташевым.
— Надо в четыре часа на работе стоять, — бросил Пахомов Карташеву, — период изысканий обыкновенно три-четыре летних месяца. Это период летних работ крестьянина, и если он, при своей плохой еде, может выдерживать шестнадцатичасовую работу, то, конечно, можем и мы.
Это была первая речь Пахомова, обращенная к Карташеву, и Карташев ответил:
— Конечно.
Пройдя с версту за деревню, Пахомов остановился на линии, развернул карту и заговорил громко:
— Эту прямую можно было бы продолжить еще версты три, но я боюсь, что этот загиб реки заставит нас тогда сделать довольно большой входящий угол, а так как всякий входящий удлиняет, то чем меньше он будет, тем лучше. Если здесь сделать что-нибудь около десяти градусов, то прямая получится верст в семь, если, конечно, карта верна.
— Вы как находите, карта вообще верна?
— Для двухверстной — да. Есть и одноверстные, но не успели достать. Попробуйте установить и снять угол.
Карташев вспыхнул от удовольствия, покраснел, как рак, ему сразу сделалось жарко. Он, как реликвию, слегка дрожащими руками принял от Пахомова маленький теодолит.
— Поверку сделать? — спросил он.
— Сикорский вчера сделал. Пожалуй, сделайте.
Карташев быстро проделал усвоенное вчера.
Когда инструмент был установлен и сведены лимбы, Пахомов показал ему рукой направление.
— Держите вот на то деревцо, немного правее, чтоб не рубить его.
Карташев повернул трубу. Еремин вешил впереди вешками. Подражая манерам и тону Пахомова, Карташев, с таким же, как у Пахомова, угрюмым и сосредоточенным лицом, бросал: «Право… лево… Между ногами и перед носом…»
Он так вошел в роль, что, как и Пахомов, когда Еремин по трем вешкам пошел уже самостоятельно, полез в карман пиджака за платком. Но он был только в ночной рубахе, подштанниках, а потому из этого движения ничего и не вышло, и Карташев смущенно, но так же угрюмо, буркнул:
— Кол! — и стал писать на нем угол, румбы, радиус.
— Какой радиус, Семен Васильевич?