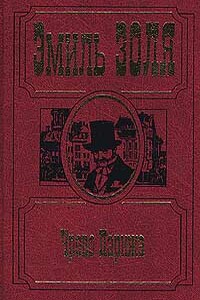— Ах, шлюха, наконец-то я тебя подстерег, все увидел своими глазами!
— Ты лжешь, отпусти меня!
— Ах, я лгу?! Дружок-то твой улепетнул! Ничего, мне хорошо известно, кто он, я с ним разделаюсь!.. Ну шлюха, посмей еще сказать, что я лгу!
Жак мчался под покровом ночи, но убегал он не от Пеке, которого узнал по голосу, нет, обезумев от горя, он бежал от самого себя.
Господи! Выходит, одного убийства ему оказалось мало? Выходит, он не насытился кровью Северины, как думал еще утром? Выходит, все начинается сызнова! Ему нужна еще одна жертва, а потом понадобится вторая, и так без конца! Упившись кровью, он на несколько недель впадет в оцепенение, а затем в нем с новой силой загорится чудовищное желание, и утолит его только женская плоть и кровь! Теперь стало еще хуже: отныне ему даже не обязательно видеть эту соблазнительную плоть, достаточно только ощутить в своих объятиях теплое женское тело, и в нем пробудится преступное вожделение и превратит его в свирепого самца, вспарывающего брюхо самки. Жизнь для него кончилась, отныне его удел — безграничное отчаяние, мрачная безысходная ночь, как та, что окружает его сейчас.
Прошло несколько дней, Жак работал, как обычно, но сторонился товарищей: к нему снова вернулись былая нелюдимость и замкнутость. После нескольких бурных заседаний палаты депутатов была объявлена война; на границе уже произошли первые столкновения, по слухам, удачные для французов. Вот уже целую неделю все пути были забиты воинскими эшелонами, железнодорожные служащие буквально валились с ног. Регулярное сообщение было нарушено, так как эшелоны эти шли вне расписания и задерживали другие поезда; лучших машинистов мобилизовали, чтобы ускорить переброску войск. Вот почему однажды вечером Жаку пришлось вести из Гавра не курьерский поезд, а большой воинский состав из восемнадцати вагонов, до отказа набитых солдатами.
В тот вечер Пеке явился в депо мертвецки пьяный. На следующий день после того, как кочегар ночью накрыл Филомену и Жака, он как ни в чем не бывало занял свое место на паровозе номер 608 рядом с машинистом; Пеке ни словом не обмолвился о том, что видел, по все время был необычайно угрюм и только искоса поглядывал на своего начальника. Жак чувствовал, что в кочегаре все сильнее растет глухое возмущение, — Пеке скрепя сердце повиновался машинисту и встречал его распоряжения глухим ропотом. В конце концов они и вовсе перестали разговаривать. От их былого согласия не осталось и следа; теперь шаткий лист железа, узкий и зыбкий мостик, на котором они всегда стояли бок о бок, превратился в крошечную арену, где каждый миг могла вспыхнуть смертельная схватка двух соперников. Их взаимная ненависть росла, и они готовы были растерзать друг друга, забывая о том, что поезд мчится на всех парах, а под ногами у них — тряская площадка в несколько квадратных футов, откуда они рискуют слететь при первом же сильном толчке. Вот почему в тот вечер, увидя, что Пеке пьян, Жак насторожился: он знал, что кочегар себе на уме и трезвым в драку не полезет, но вино пробуждало дремавшего в нем зверя.
Поезд должен был отправиться в шесть вечера, но отошел с опозданием. Посадку заканчивали уже в полной темноте; людей, как баранов, размещали в вагонах для скота. Вместо скамеек в них прибили доски, солдат грузили по отделениям, и вагоны были битком набиты, люди чуть ли не сидели друг на друге, а некоторые даже стояли, так плотно прижавшись одни к другому, что не могли двинуть рукою. В Париже уже ожидал другой эшелон, он должен был везти их дальше — на Рейн. Когда солдаты оказались наконец в поезде, они просто падали с ног от усталости. Но так как на дорогу каждому налили по стакану водки, а многие еще до того побывали в соседних лавочках и порядком там нагрузились, то лица у них побагровели, глаза буквально лезли на лоб, и из окон вагонов неслись взрывы громкого пьяного хохота. И едва поезд отошел от платформы, они принялись петь.
Жак посмотрел на небо; оно было затянуто предгрозовой пеленою, скрывавшей звезды. Да, ночь, верно, будет очень темная! Знойный воздух был неподвижен, и встречный ветер, возникавший на ходу и обычно освежавший лицо, казался в тот вечер горячим. На черном горизонте не видно было огней, только яркими искорками вспыхивали сигналы. Впереди уже начинался крутой подъем, тянувшийся от Арфлера до самого Сен-Ромена, и Жак увеличил давление пара в котле. Он уже несколько недель пытался приноровиться к особенностям своей новой машины, но еще не мог похвастаться тем, что полностью обуздал ее: она и до сих пор была капризна и непослушна, точно молодая кобылица. А в ту ночь она вела себя особенно строптиво и своенравно, казалось, подбрось только несколько липших кусков угля — и она понесет! Вот почему, не снимая руки с маховика, регулирующего перемену хода, Жак не сводил глаз с топки — поведение Пеке не на шутку тревожило его. Маленькая лампочка, укрепленная возле водомерной трубки, оставляла в полумраке площадку паровоза, а раскаленная докрасна дверца топки отбрасывала вокруг фиолетовые блики. Жак едва различал Пеке, но дважды ему почудилось, будто кочегар осторожно ощупывает его икры пальцами, словно намереваясь вцепиться в них. Впрочем, пустяки, верно, тот просто спьяну задел его! До машиниста сквозь шум доносилось громкое и злобное хихиканье кочегара, который тяжелыми ударами молота яростно разбивал уголь и упорно воевал с лопатой. Пеке то и дело открывал дверцу и щедро подбрасывал топливо на решетку.