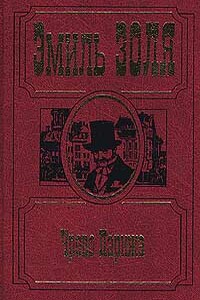— Как, это вы? Куда вы ни свет ни заря?
На лице молодой женщины выразилось комическое отчаяние, она весело рассмеялась.
— Вот попробуй что-нибудь сделать, чтобы тебя никто не встретил! Надеюсь, вы меня не выдадите… Завтра у мужа день рождения, и вот, едва он отправился по делам, я, не теряя времени, помчалась на вокзал, еду в Отей, к садоводу, муж видел у него орхидею, от которой остался без ума… Сюрприз, понимаете?
Пожилая дама доброжелательно и умиленно покачала головой.
— А как здоровье маленькой?
— Малышка — просто прелесть!.. Знаете, я уже неделю, как отняла ее от груди. Поглядели бы вы, как она уписывает свой супчик… Все мы совершенно здоровы, просто даже неловко!
И она опять залилась громким смехом, ее ослепительные зубы сверкали между алых губ. Жак, сидевший справа от нее, прятал нож в руке и говорил себе, что с этого места удобно нанести удар. Достаточно взмахнуть ножом, повернуться вполоборота, и она будет готова. Поезд вошел в Батиньольский туннель, и тут Жак заметил, что шляпа молодой женщины подвязана на шее лентами.
«Пожалуй, этот узел мне помешает, — сказал он себе. — А я хочу ударить наверняка».
Женщины продолжали весело болтать.
— Итак, вы, я вижу, счастливы.
— До того счастлива, что и передать нельзя! Так только в мечтах бывает… Кем я была два года назад? Вы, верно, помните, у тетушки жилось не сладко, и приданого у меня никакого не было… Когда он приходил, я вся трепетала, так я была влюблена. А ведь он был так красив, так богат… И вот теперь принадлежит мне, он — мой муж, и у нас ребенок! Говорю вам — это просто чудо!
Приглядываясь к узлу, которым были завязаны ленты, Жак разглядел под ним большой золотой медальон, висевший на черной бархотке; он продолжал мысленно примеряться:
«Схвачу ее за горло левой рукой, отстраню медальон, запрокину ей голову — и шея обнажится».
Поезд чуть не каждую минуту останавливался. Один за другим следовали короткие туннели — в Курсель, в Нейи. Сейчас, еще мгновенье…
— Были вы прошлым летом на море? — осведомилась пожилая дама.
— Да, мы провели шесть недель в Бретани, в глуши, в забытом всеми уголке, просто как в раю. А сентябрь прожили в Пуату, у моего свекра, там ему принадлежат громадные леса.
— Если не ошибаюсь, вы собирались зимою на юг?
— Да, отправимся в Канн числа пятнадцатого… Уже сняли дом. Прелестный садик, а напротив — море. Мы послали вперед слугу, он там все готовит к нашему приезду… И муж и я — оба мы не боимся холода, но ведь так приятно погреться на солнышке!.. В марте возвратимся в Париж. В будущем году никуда не уедем из столицы. А года через два, когда малышка подрастет, отправимся путешествовать. Одно только я твердо знаю: что бы мы ни делали, у нас всегда праздник!
Счастье просто переполняло молодую женщину, ей хотелось, чтобы об этом узнали все, и, повернувшись к Жаку, совсем постороннему человеку, она улыбнулась ему. И тут завязанные узлом ленты сдвинулись, медальон скользнул в сторону, показалась розовая шея с небольшой ямочкой золотистого оттенка.
Пальцы Жака впились в рукоятку ножа, он принял бесповоротное решение: «Именно сюда я и нанесу удар. Да, да, сразу, не откладывая, там, в туннеле, перед Пасси».
Однако на станции Трокадеро в купе вошел знакомый ему железнодорожник, который тут же завел разговор о служебных делах, потом рассказал историю о машинисте и кочегаре, которых уличили в краже угля. С этой минуты все в уме Жака перемешалось, позднее ему ни разу не удавалось в точности восстановить, что именно происходило дальше. В его ушах звенели взрывы смеха, такого веселого, что чужое счастье невольно передавалось и ему, внося в душу умиротворение. Доехал ли он до Отейя вместе с женщинами? Возможно, только он никак не мог припомнить — сошли они там или нет. Сам он в конечном счете очутился на берегу Сены, но не мог понять как. Лишь одно Жак отчетливо знал: стоя на высоком откосе, он швырнул в воду нож, который до тех пор судорожно сжимал в кулаке. Что было дальше, он не ведал, он был точно в дурмане, словно душа его покинула телесную оболочку, откуда — когда Жак швырнул нож — ушел и тот, другой. Машинист, должно быть, долгие часы бродил по улицам и площадям, не выбирая направления, без цели. Перед глазами у него плыли смутные фигуры людей, неясные очертания домов. Без сомнения, он заходил куда-то поесть, в какой-то битком набитый зал, — перед его мысленным взором отчетливо вставали белые тарелки. В голове у него крепко засело также воспоминание о красном объявлении на окнах запертой лавчонки, а все, что было потом, погрузилось в черную бездну, в небытие, где уже не было ни времени, ни пространства и где сам он недвижно покоился, быть может, на протяжении целых веков…