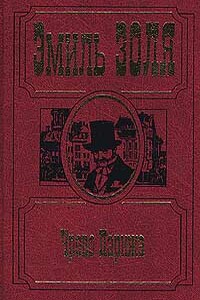— Ну, а у тебя все еще нет подружки?
Жак в свою очередь сделался серьезным. Отвел взгляд и уставился в ночную даль. Потом коротко бросил:
— Нет!
— Вот, вот, — продолжала она. — Мне не раз говорили, что ты чураешься женщин. Да я и сама с каких пор тебя знаю, а ты мне ни разу любезного словечка не сказал… Почему, а?
Жак молчал, и она, выронив веревку, бросила на него взгляд.
— Неужто ты и в самом деле любишь только свою машину? Знаешь, над тобой даже потешаются. Ты, мол, с утра до вечера готов ее чистить да оглаживать, будто тебе больше никого и приласкать не хочется…. Говорю это потому, что я тебе друг.
Теперь он тоже смотрел на нее при бледном свете, струившемся с туманного неба. Он помнил ее еще совсем маленькой, и уже в те годы она была резкой и своевольной; как только он появлялся, эта дикарочка в страстном порыве кидалась ему на шею. Потом он подолгу не видал ее и всякий раз, приезжая, удивлялся тому, как она выросла; однако она, как и прежде, кидалась ему на шею, и Жака все больше и больше приводило в смятение пламя, полыхавшее в ее больших светлых глазах. Теперь Флора стала женщиной — цветущей, будившей желание, — и она, конечно же, любит его давно, с самого детства. Сердце у него забилось сильнее, и внезапно Жак понял, что он именно тот, кого она ждала. Вся кровь кинулась ему в голову, он пришел в такое замешательство, что первым его движением было — бежать, чтобы избавиться от охватившей его тревоги. Испытывая вожделение, он всегда приходил в неистовство, перед его глазами появлялась красная пелена.
— Чего ты стоишь? — проговорила Флора. — Садись!
Он все еще колебался. Потом его ноги будто сами собой подкосились, неодолимое желание узнать любовь заставило его почти упасть на кучу веревок рядом с девушкой. Жак не произносил ни слова, в горле у него пересохло. А она, обычно надменная и молчаливая, теперь весело и безостановочно болтала в каком-то самозабвении.
— Понимаешь, выйдя за Мизара, мать большую глупость сделала. Это ей дорого обойдется… Впрочем, мне-то что, у меня и своих забот полон рот! А потом, если я вздумаю вмешаться, она меня тут же спать отправляет… Ну, и пусть выпутывается как знает! Я ведь и дома-то почти не бываю. И думаю все больше о том, что меня ждет… Да, знаешь, утром я видела тебя из тех вон кустов, ты проезжал на своем паровозе. Но ты на меня никогда не глядишь… Знаешь, тебе-то я расскажу, о чем думаю, но только не сейчас, а позднее, когда мы будем большими-большими друзьями.
Флора выронила ножницы, а он, по-прежнему не говоря ни слова, завладел ее руками. Довольная, она не отнимала их. Но едва он поднес их к своим пылающим губам, ее девичье целомудрие восстало. Как только она почувствовала приближение самца, в ней пробудилась воительница — строптивая и упорная.
— Нет, нет! Пусти, я не хочу… Веди себя спокойно, давай лучше потолкуем… У вас, мужчин, только одно на уме. Ах, если рассказать тебе, что мне говорила Луизетта перед смертью, там, у Кабюша… Да я и раньше знала, что это за старикашка, всяких гадостей насмотрелась, когда он приезжал сюда с девушками… Есть тут одна — о ней никто ничего не подозревает, он ее потом замуж выдал…
Жак не слышал, что она говорит, он ее даже не слушал. Он грубо сжал Флору в объятиях и неистово впился губами в ее рот. Она испустила легкий крик, похожий на кроткую жалобу: он вырвался из самых недр ее души, и в нем звучала вся нежность, которую она так долго скрывала. Но девушка по-прежнему боролась и вырывалась, послушная инстинкту сопротивления. Она и желала его и не уступала, испытывая тайную потребность быть побежденной. В полном молчании, тяжело дыша, они схватились, стремясь одолеть друг друга. Жак настолько потерял голову, что с минуту казалось, будто она вот-вот одержит верх и повергнет его на землю; но тут он сдавил ей горло. Блузка лопнула, и в сумеречном свете сверкнули ее напрягшиеся в борьбе молочно-белые упругие груди. Флора упала навзничь, отдаваясь во власть победителю.
Но Жак не взял ее, — с трудом переводя дух, он замер, глядя на девушку. Свирепая ярость охватывала его, заставляя искать глазами какое-нибудь оружие, камень или другой предмет, которым он мог бы ее убить. Взор его упал на ножницы, блестевшие среди обрывков веревок; он судорожно схватил их, готовый вонзить в обнаженную белую грудь с нежно алевшими сосками. Но волна леденящего ужаса отрезвила его, он отшвырнул ножницы и, не помня себя, кинулся прочь; а девушка, все еще не поднимая век, горестно думала, что он отступился, возмущенный ее сопротивлением.