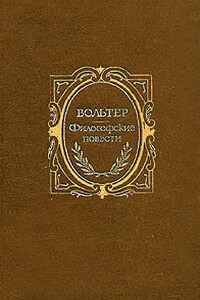— Ох, напорешься когда-нибудь…
— Ничто, однова живем!
Прошагали еще с полверсты. Впереди завиднелся старый пушечный двор, издали приметный по суматошным отблескам пламени и клубам едкого багрово-черного дыма. Савоська озирался оторопело. Кругом — невпроворот — бревенчатые клети с многими переходами вдоль стен, месиво домов и домишек, нарядные новостроенные палаты, старинные терема, увенчанные высоко вскинутыми светлицами, и поверх всего — заиндевелые, немо-бессонные купола.
Внезапно Ганька остановился, стукнул себя по лбу.
— Дьявольщина, запамятовал. Сестрицы-то ейной не будет сегодня. У хворой маманьки заночевала… да-а-а…
— Чего ж балабонил, звал с собой? — прогудел обескураженный Савоська и далеко отбросил ногой мерзлый конский катыш. — Дуй один, мешать не стану.
— Пожалуй, ты прав… Слушай, постереги маленько, вон в тупике, чуть шум — свистнешь. А там и погреешься!
Ганька крадучись подобрался к угловому дому, осторожно, с опаской поскреб ногтем в слюдяное окно.
— Секлетея! — позвал он и повторил громче: — Секлетея, спишь?
Чья-то скорая рука отдернула занавеску, появилось бабье лицо в рогатой кике, — пригожее или дурное, не разобрать в темноте, — испуганно открыло рот, исчезло. Ганька молодцевато поправил шляпу, отряхнул снег с плеч, уверенной развальцей пошел к двери. Скрипнул засов, немного погодя в боковой пристройке затеплился недолгий свет. Все стихло.
Мелко-мелко подскакивая на ледяном ветру, мотая очугуневшими руками, Савоська то ругал забывчивого приятеля — ни за понюх табаку проволок через полгорода! — то, перемогая злость, потешался над самим собой. Куда разлетелся? Даровая брага поманила, сычуг с кашей? Поцеловал пробой, телепень, дуй домой, пока не околел начисто. Ведь он, запрокида, и не вспомнит, ему теперь..
Савоська обмер. Из ворот напротив, как из худого мешка, вывалилась — предводимая вертким человечком в подряснике — орава сторожей с дубьем, обступила крыльцо. Пушкарь свистнул, и тогда трое отделились, побежали к нему.
— Лови-и-и!
Савоську спасли длинные ноги. Он далеко опередил своих преследователей, затерялся в глухих переулках.
А утром, взятый под караул, Савоська стоял посреди пушечного двора. До костей прошибал хлесткий сивер, ноги заходились нестерпимой ломотой, свинцово-каменно давили на плечо громадные старинные мушкеты.
По капле цедились думы, и все про одно. Хотя б ненадолго скинуть проклятую ношу, спрятаться в затишке, потопотать, согреваясь… Какое там! Из окна полосатой кордегардии то и дело зыркают, прямо ль ты стоишь, не хитришь ли, отбывая уставное наказание… Расправа ждет быстрая, наперед известная: к двум ружьям, весом в пуд каждое, прибавится еще столько же, на другое плечо.
Мимо проволокли окровавленного Ганьку Лушнева: руки висели плетьми, всклокоченная голова безжизненно запрокинулась назад. Следом вышагивал «дядька» в кафтане нараспах, отдувался багрово-красными щеками.
— Господи! — оторопел Савоська.
— Моли бога, мушкетами отделался. Батоги-то позлее будут… — «Дядька» ухмыльнулся. — Дай срок, отведаешь и ты!
У Савоськи расслабленно подсеклись колени. Он с трудом выправился, едва не грохнув мушкеты наземь, посмотрел вслед «дядьке»… Удивил чем — батогами. Ноне посадский лег под них, завтра его, Савоську, растелешат как миленького, врежут со свистом. Так было, так есть… Но будет ли? Достать бы где пороху, свинцовую пульку поядренее, ахнуть в висок. Чтоб не выл оглашенный ветер, не чернело косматое небо, чтоб никто не дыбился над тобой: ты-де крепость бесштанная, живой-де товар… Провались оно в тартарары, житье такое…
Бас преображенца заставил его вздрогнуть. Принесло не ко времени черта усатого!
— Эх, чадо, чадо… — Сержант помедлил, затрудненно дыша. — Огорчил ты меня… С кем связался, думал своей башкой?
— Он… сболтнул? — сошло с омертвелых Савоськиных губ.
— Не о нем речь. Не о нем! — Преображенец хотел сказать еще что-то, с досадой отмахнулся.
— Все равно теперь… — понуро пробормотал Савоська.
— Из-за каждой сволочи в омут падать — не напасешься воды! — Сержант легонько посовал его под бок. — Взбодрись! И о доме не горюй, плохо аль хорошо там было. Солдат — человек государственный, то пойми. Сотни дорог перед ним, и ни одна — по собственной мелкой надобе.