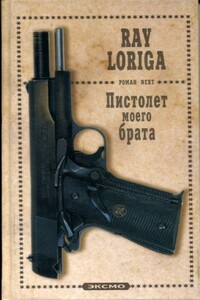– Прошу прощения, я почти уверен, что одолжил вам сотню марок меньше чем неделю назад.
– Неделю назад я был такой же, как сейчас, и я бы не стал просить у вас сотню марок, даже если бы мне грозила виселица.
В итоге этот тип уходит прочь, обиженно ворча, что само по себе говорит об ужасных манерах, а я остаюсь смотреть на деревья по другую сторону высоких окон и слушать карликовую музыку, льющуюся из всех щелей. Что за дурацкая мания повсюду преследовать человека музыкой! Это то же самое, что лить тебе на голову суп, когда ты не голоден. Мимо проходят двое близнецов, они обсуждают свой рождественский подарок, и один уверен, что это был велосипед, а второй искренне убежден, что им подарили кварцевые часы.
А тем временем старик в глубине зала неожиданно вспоминает, как звали его собаку.
Не вызывает сомнений, что жизнь моя пропала, потому что дни все накапливаются, и теперь медсестра – симпатичная, этого не отнимешь,– и доктор начинают беспокоиться, хотя, само собой, искусно это скрывают. Они искоса посматривают на меня и что-то пишут в своих маленьких книжечках, и общаются с коллегами, и осматривают других беспамятных, и входят, и выходят, и снова входят, а красные розы на дне бассейна в это утро поражают меня так же сильно, как наверняка поразили меня вчера, и позавчера, и во все другие такие же дни.
Бесспорно также, что никто не знает, что со мной делать, поскольку, когда я спрашиваю доктора, каким же образом мне предстоит выкарабкиваться, он отвечает, глядя в пол: «Там видно будет». Коротковато для надежного диагноза.
Истина в том, что весь ущерб моим нейронам, с которым нам приходится иметь дело, причинил себе я сам, руководствуясь довольно-таки странной логикой человека, бросающего мотор за борт, чтобы плыть побыстрее,– все это терпеливо разъяснил мне доктор; он использовал именно такой образ: лодка и мотор, и еще один, включающий в себя бейсбольную биту, два килограмма клубники и французское название музыкального инструмента с двенадцатью струнами; правда, этот образ от меня ускользнул, хотя я и старался его удержать, слушая так же внимательно и истово, как слушают налагаемую на тебя епитимью.
Вот заходят два друга из соседней комнаты, они поют песни и танцуют на кроватях, и как только я их вижу, я сразу же убеждаюсь, что это близнецы и что пижамы у них одинаковые, и на какой-то момент у меня возникает ощущение, что мы все одинаковые. Верно также и то, что секунду спустя эта абсурдная идея покидает мою голову так же радостно, как туда влетела. Два моих друга абсолютно одинаковы, но я, разумеется, совершенно другой. Хотя это не делает одних из нас лучше других.
Мои друзья спрашивают, как я себя чувствую сегодня, и я отвечаю, что хорошо,– и это почти правда.
Я спрашиваю, как я себя чувствовал вчера, и они рассказывают, что вчера мы кричали из окна, пока водитель одной из проезжавших машин не поднял на нас взгляд, и тогда мы помахали ему рукой, словно это был друг, приехавший именно к нам, но в конце концов этот человек опустил взгляд и машина промчалась мимо.
Когда заходит медсестра, близнецы освобождают помещение, и тогда медсестра мне сообщает, что из двух близнецов памятью обладает только один, а второй позабыл все напрочь, и что медики находят этот случай потрясающе интересным, поскольку когда здоровый брат смотрит на больного, он видит отражение себя самого, каким он был раньше и каким стал сейчас, а больной брат видит только чужого человека с собственным лицом.
Конечно, я позабуду про обоих, как только зажгут ночник на тумбочке, и даже раньше – если примусь достаточно внимательно рассматривать провода на стене.
Вероятно, проблемы других людей, включая их лица, и были тем, что я пытался забыть с самого начала. Машины, дома, освещенные окна, следы босых ног на песке, потерянные перчатки и закрытые двери в гостиничных коридорах.
Позади автомата с напитками прячется женщина. Одному богу известно зачем. В конце коридора на стуле сидит медсестра – как линейный судья на теннисном матче, вперивший взгляд в черту на земле, в любой момент готовый определить, с какой стороны от черты ударился мяч. Потому что некоторые мячи попадают в поле, а некоторые вылетают за, и на этот счет добавить больше нечего. Полагаю, что вечер лучше утра: хоть я и не могу ясно вспомнить свое утро, каждый мой шаг по коридору наполнен легким, но достоверным чувством успокоения. Это словно пар на зеркале в ванной: исчезает, стоит лишь распахнуть окна. Что-то неспособное, конечно, изменить мир, но все-таки достаточно значимое для того – и это мой случай,– кто проводит свою жизнь в ожидании маленьких перемен, отделяющих одну секунду от другой, пока все они, вместе взятые, не будут поглощены той чудесной черной дырой, которую представляет собой моя память. Например, стук шариков для пинг-понга, или звук работающих телевизоров в чужих комнатах формируют окончательные очертания минут, а ведь именно минуты и берутся в расчет, когда о часах тебе сказать абсолютно нечего. Минуты – это страницы в середине книги, одновременно горящей с двух сторон. Когда прекратится стук шариков для пинг-понга, с этой частью моей жизни будет покончено. Даже сам этот коридор подожжен с двух сторон. Меня заставляет двигаться так медленно не страх что-то завершить, а страх так ничего и не начать. В общем, все это очень скучно. Скучно, как мертвец перед зеркалом. Скучно, как крест на пустой могиле. Безмерно скучно. Я чувствую себя одним из астронавтов в анабиозе, которому лететь еще многие сотни лет. Пока на земле люди видят смену времен года, здесь внутри почти ничего не происходит. Здесь внутри у нас даже ногти не растут. Можно ли выдумать что-нибудь хуже? Разумеется, да – это просто такое выражение, и все-таки: можно ли выдумать? Ногти растут даже у мертвецов.