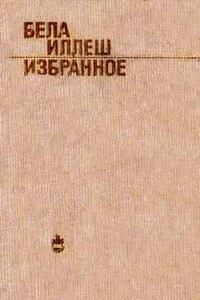Я отправился с Пойтеком. Расставаясь с Анталфи, я условился встретиться с ним на следующий день при раздаче хлеба.
Со своей порцией я покончил, еще не выйдя на улицу. Пойтек же свой паек спрятал в карман.
— Расскажи, как это ты выбрался? — спросил я.
— Выбрался, вот и все. Я здесь, и это самое главное.
— Мне дорога выдалась нелегкая.
— Но ты тоже выбрался, Петр. А как — это уже теперь, право, не важно. С тех пор, как мы в последний раз виделись, в Венгрии замучено несколько десятков тысяч рабочих и крестьян. В сравнении с венгерскими офицерами румыны — прямо ангелы. Теперь важнее всего — как и когда мы вернемся назад.
— А когда, думаешь ты, сможем мы вернуться?
— Вероятно, только после вторичной революции, а этого надо будет ждать месяцев пять-шесть, если не больше. До этого срока революция в Венгрии может разыграться только в том случае, если наши победят в Италии или в Чехо-Словакии. Положение изменилось: несколько месяцев тому назад мы оказывали заграничным товарищам вооруженную помощь, теперь же они нам будут помогать.
— А Россия?
— Там положение тоже не из блестящих, но за русских товарищей беспокоиться нечего. Они-то свое дело знают.
— Далеко отсюда живешь?
— Не больше часа ходьбы. Ботинки у тебя, надеюсь, не рваные?
— Не очень.
— Ну, тогда давай шагать.
День был холодный, дул резкий ветер. Я чувствовал себя разбитым, усталым, голодным. Я дрожал от холода. Пойтек засыпал меня вопросами, я же отвечал с пятого на десятое. Ноги казались тяжелыми, как жернова. Я едва не заснул на ходу. Чтобы поддержать во мне бодрость, Пойтек вынул из кармана полученный паек, разломил хлеб и дал мне половину. Немного погодя, видя, что я, несмотря на усталость, быстро справился с хлебом, — он отдал мне и вторую половину. Голова у меня кружилась. Как сквозь туман, видел я, что на улице толпится множество народа. Уличный шум сливался со звоном в ушах. Пойтек взял меня под руку и спокойным, ровным голосом что-то объяснял. Но я не понял ни слова.
Одетый, повалился я на кровать Пойтека и тотчас же заснул мертвым сном. Был уже поздний вечер, когда я проснулся. Не сразу сообразив, где я нахожусь, я осторожно приподнялся и подозрительно осмотрелся кругом. Сквозь узкие окна в комнату пробивался тусклый свет, с трудом позволявший различать кровать, стоявшую в нескольких шагах от моей кровати. Я встал и ощупью стал искать дверь. Я нащупал стену, затем другую.
Голова еще была тяжелая от сна. Я не совсем был уверен, что действительно нахожусь в Вене.
Открылась дверь, и в комнату вошел Пойтек. Он повернул выключатель. Я находился в комнате с двумя окнами и четырьмя кроватями. Первое впечатление у меня было такое, что я попал в больничную палату, и — как впоследствии выяснилось — я не ошибся. Это был барак, в котором во время войны помещался военный психиатрический госпиталь. По окончании войны больные разбежались, и опустевшие бараки были превращены в общежитие. Собственно говоря, этот процесс превращения в общежитие состоял в том, что больные унесли из комнат все, что можно было унести, жильцам же предоставлялось вновь омеблировать комнаты.
— Проснулся? Вот и кстати: ужин как раз готов.
Вторая комната, куда повел меня Пойтек, была такая же, как и та, в которой я спал. Первое, что мне бросилось в глаза, был горшок, поставленный на горящий примус. Из горшка шел запах горячей пищи. Кроме нас в комнате было еще пять человек. Двое лежали, а трое стояли возле примуса. Когда я вошел, бледный, рыжий, чрезвычайно моложавый на вид человек с лицом, усеянным веснушками, протянул мне руку.
— Петр? Как дела? Не узнаешь, что ли?
Конечно, я где-то уже видел это лицо, но никак не мог припомнить — где.
— По правде говоря…
— Не помнишь? Ну, не беда. Главное, чтобы не забывал, чему я тебя учил.
— Меня учили?..
Тут я сразу вспомнил все: рабочие курсы, уроки правописания, первую забастовку.
— Товарищ Секереш!
Секереш обнял меня.
— Скоро два года, как мы расстались.
— Мы виделись, товарищ Секереш, в самом начале и вот опять встречаемся, когда уже всему конец.
— Конец? — переспросил Секереш и засмеялся весело, как ребенок. — Чему это конец, Петр?