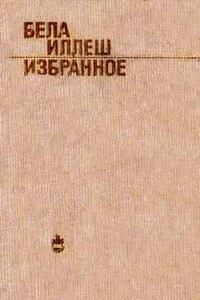— Этого я тоже не знаю. Получить работу почти невозможно. Я уже четыре недели здесь. Одну неделю я рубил дрова в лесу, но зарабатывал так мало, что даже досыта не мог наесться, а на голодное брюхо не очень-то много нарубишь. Несколько дней подряд я продавал газеты, но в них были антисоветские статьи, и… словом этого я не мог продолжать. Попробовал также быть носильщиком… У Шварца кой-какое пособие получим, а там видно будет. Скверно, что у тебя пальто нет. Ведь зима на носу.
— А ты как думаешь: зимовать здесь придется?
— Бесспорно. Раньше весны вряд ли можно рассчитывать на новую революцию. Нельзя торопить события. Надо ждать, пока они созреют. Покажут теперь белые, что такое террор… Трудно, очень трудно при нынешних обстоятельствах реорганизовать в Венгрии партию.
— Я даже представить себе не могу, каким образом можно сызнова начинать работу, кому ее вести…
— Спасите!
Пойтек вскочил с кровати и зажег электричество. На соседней кровати сидел с широко раскрытыми глазами Вильнер и кричал изо всех сил:
— Спасите, спасите!
Пока я соскакивал с кровати, Пойтек успел принести стакан воды и почти насильно напоил Вильнера. Секереш и я держали Вильнера за руки, чтобы он не вырвался, а длинноволосый поддерживал его голову. Так продолжалось несколько минут. Вдруг Вильнер так же внезапно, как и начал, перестал кричать и посмотрел на нас удивленно, как будто только сейчас увидел нас. Не сказав ни слова, он улегся и натянул одеяло на голову. Все стихло, только слышно было, как Вильнер, точно наказанный ребенок, горько плачет под одеялом.
— Несчастный!.. Он шесть недель провел на улице Зрини, — шепнул мне на ухо Пойтек. — Его хотели увезти в Шиофок, в генеральную квартиру Хорти. На полном ходу он соскочил с поезда и таким образом спасся.
Утром я вместе с Секерешем вышел во двор. Бараки стояли один возле другого, как солдаты в строю. Их сразу даже сосчитать было трудно. Куда ни посмотришь, всюду бараки — целый город бараков. По краям посыпанных гравием дорожек росли молодые каштаны; их пожелтевшие листья свернулись от ночного мороза. Посередине лагеря, на невысоком холме, стояла церковь. Мы поднялись на холм и уселись на скамейку перед запертыми церковными дверьми.
— Сегодня я еду, — тихо произнес Секереш. — Еду в провинцию. Если я вечером не вернусь, то никого обо мне не расспрашивай. Ни одна собака обо мне не спросит. С Пойтеком я уже сговорился, что ты займешь мою кровать. У меня есть лишняя пара ботинок я лишняя пара брюк. Это я оставлю тебе. У меня только одно пальто, а жаль: ведь в пальто ты как раз больше всего нуждаешься.
— А вы куда едете?
— Я же сказал, что в провинцию. Стало быть, никому не говори, что я уехал. Затем советую тебе поменьше якшаться с нашими сожителями. Пойтек сведет тебя с товарищами, которые не потеряли голову при первом поражении. Здесь, в Вене, немало прекрасных товарищей… Главное же, старайся побольше учиться. Вскоре у партии опять каждый человек будет на счету. Ты ведь знаешь…
К нам подошел Вильнер. Секереш без всякого перехода стал говорить о погоде. Несколько минут спустя Пойтек позвал нас пить чай.
Мы с Пойтеком отправились в город пешком, а Вильнер и длинноволосый последователь Христа поехали трамваем; остальные же продолжали еще валяться в постели. Хотя день был солнечный, было ветрено и холодно. Мы шли быстро, чтобы согреться. По пути мы повстречались со странной процессией. В ней участвовала добрая тысяча человек, если не больше. Шли по десяти человек в ряд, и хотя в строю, но опустив головы и совсем не военным шагом. Одни были в штатском, другие в военном, но у всех был одинаково обтрепанный вид. Шли без знамени, без песен — какая-то процессия теней.
— Демонстрация безработных, — тихо произнес Пойтек.
— Что же это за демонстрация! Без единого звука…
— А что ж им кричать? Они и тогда молчали, когда могли криком чего-нибудь добиться. Они и не понюхали борьбы, а все же потерпели поражение. В Вене свыше полутораста тысяч безработных — да, впрочем, и те, кто работают… Провалиться ей в тартарары, этой демократии…
Помещение комитета помощи являло ту же картину, что и накануне. Парикмахерская, длинная очередь ожидающих, несколько новоприбывших, несколько зевак. Один с воодушевлением рассказывал, что намерен пешком отправиться в Чехию, где условия жизни превосходные. Другой собирался в Южную Америку за счет какой-то биржи труда. Там, в Южной Америке, такое будто бы изобилие всего, что даже паровозы топят пшеницей. Товарищи читали разорванную на куски венгерскую газету. «Белый террор, белый террор»… — слышалось повсюду. Эти два слова все произносили шопотом.