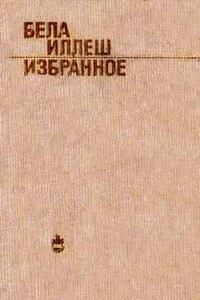Вечером, когда офицеры садились в офицерском собрании за карты, Гюлай отсылал дежурного унтер-офицера в солдатскую лавку выпить за его здоровье. Если же унтер-офицер на это не соглашался, то его уговаривали выпить за здоровье короля Карла или императора Вильгельма — от этого ни один унтер-офицер не в силах был отказаться, как ревниво ни относился он к своим служебным обязанностям.
Тогда Шмидт открывал книгу и принимался нам читать и объяснять.
— Итак, «Чего же хотят большевики?»
Занятия обычно удавалось вести часа полтора.
Как-то раз, на второй неделе моего пребывания в лагере, Григорий Балог отвел меня в сторону.
— Я тебя, брат, кой о чем просить хочу, — только ты меня не выдавай…
— То есть, как это так? Что это значит: не выдавай?
— Я же случайно сюда попал — совсем я не такой изменник своей родины, как вы все. Вот я и боюсь… Очень мне обратно на фронт не хочется — у отца родного не жилось мне так хорошо, как здесь. Поэтому ты уж меня, ради Христа, не выдавай…
Я успокоил его, что буду нем, как рыба, но Балог все же продолжал тревожиться. Я передал Шмидту об этом разговоре, и он принял его в свой кружок. Две недели сидел Балог с нами, внимательно слушал, но вопросов не задавал и в спорах не участвовал, хотя когда касались вопроса, «кому принадлежит земля?», то всегда обращались к нему.
Григорий Балог все продолжал опасаться, как бы мы его не выдали начальству, а под конец сам выдал всех нас.
Положение австро-венгерской армии становилось день ото дня тяжелее, да и немцы стали отступать из Франции.
— Болгары по горло сыты войной, они уже сложили оружие, — сообщил нам как-то Гюлай, всегда первым узнававший всякие новости.
— Ну, стало быть, шабаш! — воскликнул Шмидт. — Завтра начинаю укладывать свои пожитки…
Вечером занятия шли куда оживленнее, чем обычно. Фельдфебель отправлялся выпить, часовой же сидел вместе с нами и слушал. Офицеры шумно пировали в офицерском собрании. Мы могли быть спокойны — никто нам, повидимому, не собирался мешать.
Шмидт был особенно в ударе, рассказывал нам всякие эпизоды из военной жизни и из русской революции. В этот день он не говорил, как обычно, о пролетариате, о крестьянстве и буржуазии, а рассказывал о металлисте Семене Ивановиче, который при взятии Кремля у белых юнкеров, несмотря на полученные четыре раны, продолжал все же сражаться; о батраке Григории Степановиче, который кинул через окно ручную гранату в сидевших в комнате офицеров; о Сергее Ивановиче, который…
Тут внезапно дверь распахнулась, и к нам в помещение ворвался прапорщик в сопровождении восьми жандармов.
— А-а, сволочи! — заорал прапорщик и кулаком ударил Шмидта по лицу. Очки разлетелись вдребезги, и лицо Шмидта окрасилось кровью.
Этой же ночью полковник, начальник лагеря, учинил нам всем строжайший допрос. Григорий Балог сослужил нам хорошую службу. То, что он не успел рассказать раньше, он дополнил теперь. При этом он немилосердно врал.
— Унтер-офицер Шмидт, — показывал он, — говорил, что собирается кинуть ручную гранату в офицерское собрание…
На следующее утро всех нас, восемнадцать человек, отправили в Будапешт.
Дня два я просидел в военной тюрьме на Маргит-бульваре, а затем меня водворили на прежнее место — в военную тюрьму, в казармах 1-го гонведного полка.
Тюрьма была битком набита арестантами: даже на полу усесться было трудно.
— Ничего, — утешал меня старый гонвед. — Будь покоен — долго мы здесь не засидимся…