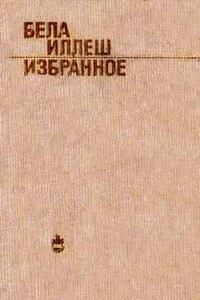— Генерал Пари…
— Не будем спорить, милостивый государь. Я не разрешаю.
— Мы обжалуем ваше решение.
— Пожалуйста, это ваше право. Но если вы истинные республиканцы, то вряд ли будете подавать жалобы. Вы утверждаете, что митинг — лучшее оружие против венгерской ирреденты? А я вам заявляю и готов подтвердить это своим офицерским словом, что против ирреденты эскадрон жандармов — оружие несравненно более действительное, чем всякие митинги. О, жандармы — на них можно положиться! Но на вас… Извините, в мои намерения не входит вас задевать, но… Вот вы, например, меня не знаете. Откуда вам может быть известно, что я искренний республиканец, а не тайный монархист? И я вас не знаю. Вернее, знаю про вас, что всего восемь месяцев назад вы еще были активным большевиком. Теперь сами судите: хорош был бы я слуга республики, если бы поручил вам защиту демократии.
«Не дурак человек, — подумал Петр. — Чтобы ему сдохнуть!»
— В таком случае, господин жупан, — сказал он вставая, — я приношу жалобу на ваше решение. Благоволите подтвердить мне это письменно.
— Не соблаговолю, не надейтесь, — ответил жупан, тоже поднимаясь, и резко добавил: — Когда вы едете?
— Сегодня, понятно.
— Поезд отходит в четыре часа дня. А что вы до тех пор собираетесь делать?
— Что я — арестован?
— Нет, но я не хотел бы до четырех часов дня держать вас под надзором полиции.
— Я хочу навестить мать.
— Хорошо.
Жупан кивнул головой и забыл протянуть руку.
В воротах Петр едва не столкнулся с высоким элегантным господином, направлявшимся в комитатское управление.
— Петр!
Петр сразу даже не узнал Анталфи. Тот крепко обнял его.
— Ты как сюда попал? — почти враз спросили оба.
— Видишь ли…
Не зная, что сказать, Петр лишь пожимал плечами.
Анталфи взглянул на часы.
— Сейчас у меня, к сожалению, нет ни секунды времени. Меня дожидается жупан, опоздать не могу, Теперь десять минут первого, ровно в час встретимся в кафе «Эмке». Идет?
— Хорошо, приду, — несколько неуверенно ответил Петр.
«Как же этот попал сюда?» — спрашивал он себя. Впрочем, долго ломать себе над этим голову не стал: отказ жупана был большим ударом. С поникшей головой побрел он по хорошо знакомой дороге — мостом через Верке, затем налево до униатской церкви, а потом направо.
Он очень радовался предстоящей встрече с матерью, но к его радости примешивался легкий страх. Пятнадцать месяцев, как он не видел старушки, не получал от нее известий и сам ни разу не писал. А какие это были пятнадцать месяцев…
Ворота дядиного дома на запоре. Приходится долго стучать, пока их открывают. Показался солдат. Петр по-немецки спрашивает, здесь ли его дядя. Солдат тупо смотрит на него и ничего не отвечает. Петр повторяет вопрос, тот захлопывает ворота. Петр в недоумении остается стоять на улице.
В соседнем доме живет еврей-кондитер Гартман. Из-за полупритворенных ставней гартмановского дома кто-то машет Петру рукой. Подойдя ближе, он различает в окне тетушку Гартман, которая часто угощала его в детстве пирожным ломом.
Петр тщетно показывает знаками, что хочет войти — окно не открывается. Старуха что-то говорит. Слов не слышно, но, когда она по нескольку раз повторяет какое-нибудь слово, Петр читает его по движениям губ.
— Илава… Илава…
— Мой дядя?
Старуха кивает.
— За что?
— Большевик!
— Дядя? — удивляется Петр.
Утвердительный кивок.
Петр движением головы показывает, что хочет войти в дом.
— Нет, нет, — качает головой старушка.
— А мать? Где мать?
С большим трудом удается ему разобрать ответ:
— У Шолома Бляу.
— У шинкаря?
— Да.
В доме Шолома Бляу на улице Андраши ворота стоят настежь: со двора как раз выезжают два пивных фургона. Мостовая гудит под тяжелыми мохнатыми копытами огромных мекленбургских тяжеловозов. Когда ворота закрываются за вторым фургоном, Петр уже во дворе.
Бочки, пустая винная кадка, большая куча битого кирпича.
— Куда? — спрашивает его хромой старик, по виду извозчик.
Петр говорит, что ищет мать.
Старик безучастно глядит на него. Никакая мысль не оживляет его темных глаз с красными веками.
Петр повторяет вопрос, и старик, кивнув в ответ, уходит в дом. Петр остается один. Время идет. Внезапно Петром овладевает безотчетный детский страх. Он хватает кирпич и прижимает к себе как единственное надежное оружие. Наконец, опомнившись, отбрасывает его прочь.