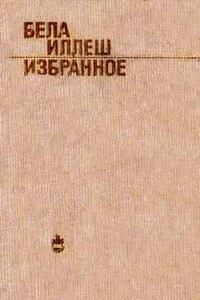Петр еще раз внимательно осмотрел врученный ему паспорт. У него еще мелькала смутная надежда, что его обманывает зрение.
— Ты это… серьезно? — растерянно обратился он к Гайдошу.
— А почему бы и нет? Как нельзя более серьезно.
— Как же я поеду с испанским паспортом, когда ни звука не знаю по-испански?
— Не беспокойся, — улыбнулся Гайдош, — честные пограничники знают не больше. Едешь ты, к тому же, лишь вечером. До тех пор успеешь заучить свою фамилию, а это уже кое-что. Волосы у тебя темные, смажешь их ореховым маслом — они и совсем почернеют, глаза тоже черные, купишь себе широкополую шляпу — чем не испанец? А говорить будешь по-немецки…
— Да я и по-немецки с грехом пополам…
Вот и прекрасно. Где это видано, чтобы испанцы хорошо говорили по-немецки?
Петр пожал плечами, не стал больше спорить: партия приказывает! — и сунул паспорт, вместе с деньгами на дорогу, в карман.
За два дня путешествия у него раз двадцать проверяли документы, и ни разу испанский паспорт, сфабрикованный в венском «Кафе Габсбург», не возбудил сомнений.
— А верно, будто у вас, в Испании, сигары можно покупать без карточек? — осведомился у него рыжий курносый жандармский вахмистр.
— Угум…
— Счастливая Испания!.. Бой быков!.. Да, да…
Вахмистр сокрушенно вздохнул, и, когда Петр угостил его дрянной австрийской папиросой, начиненной сушеной травой, он рассыпался в благодарностях.
На второй день своего путешествия Петр настолько успокоился, что решился даже снять с головы наиболее испанскую принадлежность своего костюма — широкополую черную шляпу.
Унгвар — Ужгород.
Унгвар был незначительным венгерским городком. Ужгород же — столица Прикарпатской Руси. И все же на улицах русинской столицы такая же грязь и беспорядок, как и во времена венгерского владычества; разница лишь та, что теперь там чаще попадаются на глаза солдаты. Офицеры носят итальянские кепи и говорят по-чешски. На правительственных зданиях вместо венгерской короны чешский лев.
Петр знал адрес Секереша. Тощая извозчичья кляча, запряженная в грязную, расхлябанную пролетку, доставила его по назначению. Секереш был дома и, когда Петр вошел, разутюживал свои брюки.
— Почему ты не встречал меня на вокзале?
— А зачем нужно, чтобы нас видели вместе?
Секереш был в одних кальсонах, но даже и в таком виде поражал своей элегантностью: лакированные ботинки, туго накрахмаленная сорочка, шелковый галстук. Впрочем, с крахмальным воротничком он был, видимо, не в ладах: разговаривая, он то и дело засовывал два пальца за это непривычное украшение и свирепо дергал его.
— Раздевайся, Петр, и принимайся за умывание… Гайдош, вероятно, сообщил тебе, что я — буржуазный журналист. Тебе также должно быть известно, что я давным-давно раскаялся в том, что — отчасти по юношескому недомыслию, отчасти же по принуждению — служил большевикам. Я опубликовал заявление в «Ужгородской газете»; если я тебе его прочту, то дальнейших пояснений не потребуется.
Секереш прочел вслух свое заявление:
— Большевики… Введен в заблуждение… Юношеская доверчивость… Раскаянье… Исправление…
— И они поверили всей этой галиматье? — в изумлении спросил Петр.
— Как видишь. Я состою сотрудником венгерской газеты, поддерживающей чешское правительство, — значит, мне верят. Здесь особые условия. Прочитай я о подобных вещах, в жизни бы не поверил.