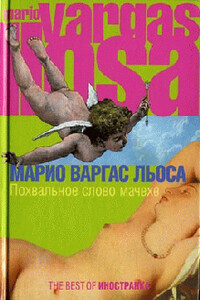– Ах, Лукреция, Лукреция, простите, я не смог сдержаться. Я вовсе не хотел вас оскорбить, напротив. Мне никогда не доводилось видеть столь прекрасного зрелища, то есть, я хочу сказать, столь совершенного тела, как ваше. Вы знаете, я вас очень уважаю и восхищаюсь вами. Как ученого, преподавателя, юриста. Но увидеть вас здесь, такой – лучшее, что было в моей жизни. Поверьте мне, Лукреция. Я выброшу в мусорное ведро все мои дипломы, степени, титулы и грамоты, все эти honoris causa [92]. («Будь я помоложе, я сжег бы все книги и, словно нищий, присел бы к тебе на порог, – прочел Ригоберто строки поэта Энрике Пеньи. – Ты не ослышалась, крошка: словно нищий, к тебе на порог».) Я никогда не был так счастлив, Лукреция. Увидеть вас вот так, без одежды, как Одиссей Навсикаю, – величайшая награда, которой я недостоин. Я сам не знаю, что со мной творится. Я плачу, потому что я так благодарен вам, так тронут… Не отвергайте меня, Лукреция.
Признание вызвало новую порцию слез и горестных вздохов. Профессор рыдал и стенал, уткнувшись головой в край свисавшей с кровати простыни, объятый скорбью и радостью, потерянный и счастливый.
– Простите, простите, – бормотал он чуть слышно.
Прошло немало минут, а быть может, и часов, прежде чем рука доньи Лукреции – он содрогнулся всем телом, словно испуганная кошка, – легла ему на голову. Пальцы перебирали его волосы, лаская, утешая. Когда Лукреция заговорила, ее голос пролился на изъязвленную душу живительным снадобьем:
– Успокойся, Ригоберто. Не надо плакать, муж мой, любовь моя. Все позади. Разве я не делала все, что ты хотел? Ты вошел, увидел меня, приблизился, разрыдался, я тебя простила. Разве могу я сердиться на тебя? Вытри слезы, успокойся, постарайся заснуть. Баю-бай, маленький, баю-бай.
Далеко внизу волны бились о гранитные берега Барранко и Мирафлореса, густая вуаль облаков закутала лимское небо, надежно спрятав луну и звезды. Однако ночь кончалась. Приближался рассвет. Еще один день ушел. Еще один день пришел.
Ты никогда не увидишь ни одной картины Энди Уорхола или Фриды Кало, не станешь аплодировать политикам, не позволишь, чтобы кожа на твоих локтях и коленях потрескалась, а ступни загрубели.
Ты не станешь слушать Луиджи Ноно [93] и песни протеста Мерседес Сосы [94], смотреть фильмы Оливера Стоуна и есть артишоки.
Ты не станешь брить ноги, не острижешь волосы, у тебя никогда не будет прыщей, кариеса, конъюнктивита, вздутого живота, ни (еще не хватало) геморроя.
Ты не станешь ходить босиком по асфальту, камням, гравию, плитке, резине, шиферу и металлу, не станешь опускаться на колени на поверхности тверже, чем хлеб для тостов (до того, как его поджарили).
Ты не станешь употреблять слова: теллурический, чолито, рефлексировать, визуализировать, государственник, косточки, выжимки и социетальный.
Ты не станешь заводить хомячков, полоскать горло, носить парик, играть в бридж, никогда не наденешь шляпу или берет.
Ты не станешь браниться и танцевать рок-н-ролл.
Ты никогда не умрешь.