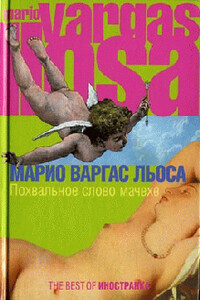Нет, ребенок не мог написать таких писем. Анонимки отличала изысканная чувственность, в одной оказалась целая поэма под названием «Песнь телу возлюбленной», в которой по отдельности воспевались лицо, плечи, талия, грудь, живот, ягодицы, бедра, лодыжки, ступни. Таинственным поклонником пышных форм мог быть только дон Ригоберто. («Этот тип по вам с ума сходит, – заявила Хустиниана, пробежав глазами „Песнь…“. – Знаете, по-моему, это дон Ригоберто. Фончито, конечно, смышленый, но откуда ему знать такие слова. К тому же тот, кто это писал, успел хорошенько вас разглядеть».)
– Мамочка, а почему ты все время молчишь? И смотришь непонятно куда? Ты сегодня какая-то странная…
– Это все из-за анонимок. Знаешь, Фончито, они все не идут у меня из головы. Я помешалась на этих чертовых письмах, совсем как ты на своем Эгоне Шиле. Целыми днями их перечитываю, снова и снова.
– А что в этом плохого? Разве там написано что-то плохое или обидное?
– У них нет подписи. И мне порой кажется, что их прислал какой-то призрак, а вовсе не твой папа.
– Ты прекрасно знаешь, что это он. Все идет по плану, не переживай. Вы очень скоро помиритесь, вот увидишь.
Воссоединение дона Ригоберто и доньи Лукреции стало вторым великим наваждением мальчика. Он говорил о грядущем примирении с такой уверенностью, что у мачехи скоро не осталось сил ему возражать. Правильно ли она поступила, показав пасынку анонимки? Содержание некоторых писем было столь интимным, что женщина всякий раз твердила про себя: «Это – ни за что». И всякий раз читала вслух письмо, зорко следила за реакцией Фончито и ждала, что он выдаст себя. Но нет. За неизменным удивлением следовал восторг, затем делался единственно возможный вывод: это папа написал, кто же еще. Погруженная в размышления донья Лукреция не сразу заметила, что Фончито притих и отрешенно глядит в окно на оливковую рощу, словно зачарованный каким-то воспоминанием. На самом деле Фончито рассматривал собственные руки, поочередно поднося их к глазам; он тряс ими, вытягивал кисти, сплетал и расплетал пальцы, прятал большой палец, складывал из пальцев причудливые фигурки, как в китайском театре теней. Однако Фончито, судя по всему, интересовали вовсе не тени; он изучал собственные пальцы, как энтомолог изучает под микроскопом бабочку.
– Можно узнать, чем ты занят?
Мальчик, не прерывая своего занятия, ответил вопросом на вопрос:
– Скажи, тебе не кажется, что у меня уродливые руки?
Что взбрело в голову дьяволенку на этот раз?
– Ну-ка, посмотрим. – Донья Лукреция решила подыграть пасынку. – Дай их сюда.
Только Фончито вовсе не играл. Очень серьезный, он встал со стула, подошел к мачехе и положил руки к ней на ладони. Ощутив прикосновение его мягких, гладких ладошек, донья Лукреция вздрогнула. Руки у Фончито были маленькие, пальцы тонкие и длинные, бледно-розовые ногти тщательно подстрижены. Подушечки перепачканы то ли краской, то ли тушью. Донья Лукреция долго рассматривала ладони пасынка, пользуясь случаем, чтобы приласкать их.
– И вовсе они не уродливые, – заявила женщина наконец. – Хотя мыло и мочалка не помешали бы.
– Жаль, – мрачно произнес мальчик, убирая руки. – Значит, в этом мы с ним не похожи.
«Ну вот. Началось». Эта история повторялась из вечера в вечер.
– Объясни-ка поподробнее.
Фончито не было нужды упрашивать. Как мачехе наверняка известно, Эгон Шиле помешался на руках. Не только собственных, а на руках вообще, руках всех его моделей, мужчин и женщин. Нет, она об этом не знала. Через мгновение на коленях у доньи Лукреции оказался альбом с репродукциями. Ну, теперь-то она видит, какое отвращение Эгон Шиле питал к большому пальцу?
– К большому пальцу? – рассмеялась донья Лукреция.
– Присмотрись к портретам. Например, к Артуру Ресслеру, – горячо продолжал Фончито. – Или вот этот: «Двойной портрет генерального инспектора Генриха Бенеша с сыном Отто»; а вот еще Эрих Ледерер; и автопортреты. У моделей на каждой руке по четыре пальца. А большой спрятан.
Это еще зачем? К чему скрывать большой палец? Потому что он самый уродливый? Или художник боялся нечетных цифр, думал, что они приносят несчастье? Или стыдился собственного деформированного пальца? Что-то с руками у Эгона Шиле было не в порядке; а иначе как объяснить, что на всех фотографиях он прячет их в карманах или принимает нелепые позы, скрючив пальцы, словно злая ведьма, протягивает их к фотографу, поднимает над головой или широко разводит в стороны, словно крылья? Художника волнуют все без исключения руки: мужские, женские, свои собственные. Неужели она и вправду не замечала этого раньше? Разве не удивительно, что у хрупких красивых натурщиц такие грубые, некрасивые руки с широкими ладонями и короткими пальцами? Вот, например, картина 1910 года, «Стоящая обнаженная с черными волосами».