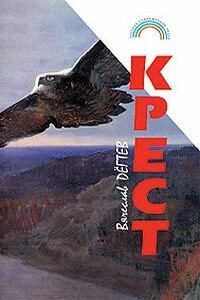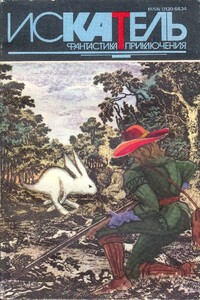— Ну чё? Не слышу оживления. Как на похоронах…
— Спой, если весело, — отозвался кто-то из полумрака, — или спляши.
— А чё, и спою. А может, и спляшу. Вот только инструмент настрою.
Поставив мосластую ногу на скамейку, Леха побренькал, то подтягивая струны, то отпуская, скорее всего просто томя слушателей, — и вдруг ударил по струнам и неожиданно высоким фальцетом запел, немного гнусавя, подражая не то Боярскому, не то Макаревичу…
Из ближней, зелено освещенной палатки вышли две девушки, обе в джинсах и одинаковых майках, обе беленькие и стриженные под мальчиков. Они приблизились к курилке и остановились под фонарем, и Вадик нашел отличие — и какое: одна была курносенькая, а другая — настоящий чайник! Нос у нее был большой, вислый, с горбинкой. Леха, через плечо косясь на девчат, внезапно умолк и, озорно посматривая на курносенькую, выдал:
Я в весеннем лесу
Пил березовый сок.
И с курносой прыгуньей
Я в стогу ночевал…
Курносая фыркнула, сморщила обиженно капризное личико и резко повернулась. Быстрым шагом, нервно помахивая рукой, ушла в темноту. Ушла за ней следом и другая, часто оглядываясь, с явным сожалением. Бедняжка, ей, наверное, так хотелось остаться, она, верно, и досадовала на подругу (чего обиделась — парень пошутил!), но и солидарна была с ней (чего позволяет себе, черт голенастый!). А Леха, глядя вслед девушкам, протянул глупое, давно набившее Вадику оскомину:
— У-у, ты какая!.. — и добавил в какой-то растерянности: — Знаем таких… я в кабаке работаю. Официантом. А чё? Клевая работешка…
Хотя Леха и хорохорился, стараясь выглядеть этаким бывалым парнем, всего хлебнувшим и через все прошедшим — и это, надо признать, неплохо у него выходило, — но и в голосе, и в жестах, и в преувеличенной возбужденности чувствовалась какая-то мальчишеская демонстративность.
— Между прочим, в кабачок как зря и кого зря не возьмут. А я — как видите… К нам такие цацы заходят — почище этой. А смотришь, примет девочка дозу — и куда чего девалось… «Ах, зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать…» — запел он.
Пел он надрывно, через силу, — но все равно хорошо, — демонстрируя беззаботность и даже удаль. А Вадику было его жаль… Перестал Лexa неожиданно, и никто, кроме Вадика, не догадался почему: просто Леха, случайно встретив взгляд Вадика и все прочтя в нем о себе, неожиданно стушевался.
— Хватит, — хрипловато проговорил он, глядя под ноги, пряча от Вадика глаза, — сейчас отбой будет.
И побито ушел.
«Не прыгнет», — подумал почему-то Вадик.
4
Первые три дня занимались изучением и тренировочной укладкой парашюта. Укладывали по этапам: укладка кромки, потом одевание на купол чехла, набор строп в соты… Палыванч после каждого этапа проходил, проверял, и к следующему этапу приступали лишь тогда, когда все у всех бывало выполнено правильно. После укладки распускали парашюты и начинали по новой… И так целый день.
На третий день, после обеда, стали укладывать парашюты уже всерьез, для прыжков, с заполнением документации (на каждый парашют оказался отдельный паспорт). Уже к вечеру, когда уложили по два парашюта и оставалось еще по одному, к казарме подкатила крытая зеленым брезентом машина, и из нее высыпала новая партия призывников. Им отомкнули дверь с другого торца казармы — там, за перегородкой, оказалось довольно большое помещение. Побросав вещи, новобранцы в полном составе явились на укладочную площадку, столпились у черты из мела, которую Палыванч категорически запретил переступать, глазели, открыв рты и расширив глаза, как на диво…
Вадик поймал себя на том, что его укладочный стол лежит слишком далеко от той черты, за которой, напирая друг на друга, столпились новобранцы. Да и вокруг как-то неестественно все оживилось: громче стали разговаривать, деланно, через силу порой, хохотать, к месту и не к месту употреблять термины, как заправские парашютисты, для которых все это — и прыжки, и парашюты, — все это давно привычное и давно надоевшее…
— Слышь, дай-ка мою запаску… — небрежно говорит один.
— Фартук одерни — стропы из сот торчат… — показывает другой, посматривая искоса в сторону новобранцев.